Литература
Страница 9 из 10
Страница 9 из 10 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 Re: Литература
Re: Литература
...
Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Куртца, затем слова: "Воспользоваться этим печальным случаем". Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера.
- Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно,- сказал он и отошел.
Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те, со своей стороны, утверждали что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от тлеющих развалин.
Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в серебряной оправе, но и имеет в своем распоряжении свечу - целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками; копья, ассегаи, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев.
Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше года... в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало - не знаю чего... быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы; таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали - все эти шестнадцать или двадцать пилигримов; честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное,- как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа напоказ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. Есть, в конце концов, какая-то Причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок. Лошадь украдена. Ну что ж! Вор пошел напрямик. Быть может, он умеет ездить верхом. Но иной так посмотрит на недоуздок, что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка.
Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным, но, пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается - хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе-гробе и т.д. Маленькие глазки его блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно.
Сначала я недоумевал, потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. Я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было: меня лихорадило, а голова забита была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня, очевидно, за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут взгляд мой упал на маленький эскиз масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которая держит в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной, и что-то зловещее было в ее лице, освещенном факелом.
Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского (медицинское снадобье) с воткнутой в нее свечкой.
На мой вопрос он ответил, что картина писана мистером Куртцем на этой самой станции больше года тому назад, пока он ждал оказии, чтобы добраться до своего поста.
- Скажите мне, пожалуйста,- попросил я,- кто такой этот мистер Куртц?
- Начальник Внутренней станции,- коротко ответил он, глядя в сторону.
- Благодарю вас,- со смехом отозвался я.- А вы выделываете кирпичи на Центральной станции. Все это знают.
Минутку он помолчал, потом произнес:
- Куртц - диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего еще. Для ведения дела,- начал он вдруг декламировать,- доверенного нам Европой, нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели.
- Кто это говорит?- спросил я.
- Очень многие,- отозвался он.- Иные даже пишут об этом. И вот он является сюда - исключительная личность, как вам должно быть известно.
- Почему я должен это знать?- с удивлением перебил я.
Он не обратил на меня внимания.
- Да. Сегодня он стоит во главе лучшей станции, на следующий год он будет помощником начальника Центральной станции, еще два года - и... Но полагаю, вам известно, кем он будет через два года. Вы принадлежите к этой новой банде - банде служителей добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. О, не отрицайте. Я не слепой!
Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть не расхохотался.
- Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы?- спросил я.
Он не нашелся, что ответить. Это было очень забавно. Я сурово сказал:
- Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Куртц будет начальником всех станций.
Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось шипение; облако пара поднималось в лунном свете; где-то стонал избитый негр.
- Как ревет эта скотина!- воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас.- Поделом ему! Преступление... наказание... готово! Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ. Это положит конец всяким пожарам. Я только что говорил начальнику...- Тут он заметил моего спутника и сразу оробел.- Вы еще не спите?- пробормотал он с раболепной вежливостью.- Ну конечно! Это так естественно. Да! Опасность, волнение...
Он скрылся. Я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот:
- Сборище идиотов!
Видны были группы пилигримов, жестикулировавших, споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать ложились с ними. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, молчание этой страны проникало в самое сердце,- тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздохнул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку.
- Дорогой сэр,- сказал мой спутник,- я не хочу быть непонятым вами - вами, который увидит мистера Куртца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я. Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении.
Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальника, и я понимал, что приезд этого Куртца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи - первобытной грязи!- щекотал мне ноздри; перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес; блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку,- я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды. Во всем было величие, ожидание, немота, а этот человек бормотал что-то о себе. Видя это спокойствие на обращенном к нам лике необъятного пространства, я задавал себе вопрос: нужно ли видеть в этом призыв или угрозу? Кто мы, забравшиеся сюда?
Сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши, немой и, быть может, лишенной слуха. Что таилось в ней? Я знал - оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер Куртц. О да, о нем мне прожужжали уши! Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. Если вы его спрашивали, какой вид они имеют или как они себя держат, он робел и бормотал, что они "ходят на четвереньках". Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он - шестидесятилетний старик - вступил с вами в драку.
Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за Куртца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете: ложь я ненавижу, не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что она меня страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения - как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным, вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь Курцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь?
Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон - делаю тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна, эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каковое и является самой сущностью сновидения...
***
Марлоу на секунду умолк.
- ...Нет. это невозможно, невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период, невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в одиночестве...
Он снова задумался, потом добавил:
- Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете...
Сумерки сгустились, и мы - слушатели - едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший в стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал. Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой.
***
- ...Да, я не мешал ему говорить,- снова начал Марлоу,- не мешал думать что угодно о влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал! А за моей спиной не было никого и ничего! Ничего, кроме этого несчастного, старого, искалеченного парохода, к которому я прислонился, пока он плавно говорил о "необходимости для каждого человека продвинуться в жизни". "И вы понимаете, сюда приезжают не затем, чтобы глазеть на луну". Мистер Куртц был "универсальным гением", но даже гению легче работать С "соответствующими инструментами - умными людьми". Он - мой собеседник - не выделывал кирпичей: не было материалов, как я сам прекрасно знаю; а если он выполнял обязанности секретаря, то "разве разумный человек станет ни с того ни с сего отказываться от знаков доверия со стороны начальства?"
Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно?.. Клянусь небом, мне нужны были заклепки! Заклепки. Чтобы продолжать работу... заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики с заклепками, ящики открытые, разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками,- а здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но нечем было их закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами: с дрянным глянцевитым коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пенни за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклепки. А ведь три носильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду.
Теперь мой собеседник стал фамильярным, но, кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни Бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что нимало в этом не сомневаюсь, но что в данный момент мне нужны заклепки и того же пожелал бы и мистер Куртц, если бы об этом знал. Письма отправляют каждую неделю...
- Дорогой сэр,- воскликнул он,- я пишу то, что мне диктуют!
Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ...
Он изменил свое обращение: стал очень холоден и вдруг перевел разговор на гиппопотама; поинтересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту (ибо я не покидал парохода ни днем ни ночью). У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночи напролет. Но вся энергия была израсходована даром.
- У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его,- пояснил он мне,- но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек - вы меня понимаете?- ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь.
Он остановился, освещенный луной, тонкий горбатый нос был слегка искривлен, слюдяные глазки поблескивали, он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я видел, что он взволнован и заинтригован, и это сильно меня обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу - разбитому, искалеченному, продырявленному горшку - пароходу. Я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из под сухарей Хентли и Палмера, отброшенная ногой в канаву; впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. Я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы - никто ее не любит,- но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное "я", скрытое от всех остальных, найти его для себя, не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда не могут сказать, что за ней скрывается.
Я нисколько не удивился, увидав, что кто-то сидит на палубе, свесив ноги за борт. Я, видите ли, подружился с несколькими механиками, которые жили на станции. Остальные пилигримы, конечно, их презирали... Должно быть, потому, что их манеры оставляли желать лучшего. На корме сидел надсмотрщик - котельщик по профессии,- хороший работник. Это был тощий, костлявый, желтолицый человек с большими внимательными глазами. Вид у него был озабоченный, череп голый, как моя ладонь; но волосы, выпадая, казалось, прилипли к подбородку и прекрасно привились на новом месте, так как борода его доходила до пояса. Он был вдовцом с шестью маленькими детьми (чтобы приехать сюда, он их оставил на попечение сестры) и питал страсть к голубям. О них он говорил с восторгом, как знаток и энтузиаст. После работы он частенько приходил ко мне из своей хижины, чтобы потолковать о своих детях и своих голубях. В рабочие часы, когда ему приходилось ползать в грязи под килем парохода, он обвязывал свою бороду чем-то вроде белой салфетки. К салфетке приделаны были петли, надевавшиеся на уши.
По вечерам он, присев на корточки, старательно стирал свою тряпку в заливчике, а потом торжественно вешал ее на куст для просушки.
Я хлопнул его по спине и крикнул:
- У нас будут заклепки!
Он поднялся на ноги, восклицая:
- Да что вы! Заклепки!- словно не верил своим ушам. Потом понизил голос:
- Вы... а?
Не знаю, почему мы вели себя как сумасшедшие. Я приложил палец к носу и таинственно кивнул головой.
- Здорово!- закричал он и, подняв одну ногу, щелкнул пальцами над головой. Я стал отплясывать жигу. Мы прыгали по железной палубе. Оглушительно задребезжало старое судно, а девственный лес на другом берегу отозвался грохочущим эхом, прокатившимся над спящей станцией. Должно быть, кое-кто из пилигримов проснулся в своей хижине. В дверях освещенной хижины начальника показалась чья-то темная фигура; вскоре она скрылась, а затем, через секунду, исчез и просвет в дверях. Мы остановились, и тишина, спугнутая топотом наших ног, снова хлынула к нам из леса. Высокая стена растительности, масса переплетенных ветвей, листьев, сучьев, стволов, неподвижная в лучах луны, походила на стремительную лавину немой жизни, на вздыбившийся, увенчанный гребнем зеленый вал, готовый рухнуть в заливчик и смести с лица земли нас - жалких маленьких человечков. Но стена оставалась неподвижной. Издалека доносился заглушенный могучий храп и плеск, словно какой-то ихтиозавр принимал лунную ванну в великой реке.
- В конце концов,- рассудительно сказал котельщик,- почему бы нам не получить заклепок?
И в самом деле! Я не видел причины, почему мы могли бы их не получить.
- Они прибудут через три недели,- доверчиво сказал я.
Но они не прибыли. Вместо заклепок нас ожидало нашествие, испытание, кара. Отдельными группами стали являться посетители, и это продолжалось три недели. Впереди каждого отряда шел осел, который нес на своей спине белого в новом костюме и коричневых ботинках, раскланивавшегося на обе стороны с ошеломленными пилигримами. По пятам за ослом следовала толпа ворчливых, угрюмых негров с натруженными ногами. Палатки, походные стулья, цинковые ящики, белые коробки, темные тюки свалены были во дворе, и атмосфера тайны сгущалась над бестолочью станции. Пять раз повторялись эти вторжения; казалось, что люди беспорядочно обратились в бегство, прихватив с собой товары из бесчисленных складов мануфактуры и провианта, чтобы здесь - в глуши - поровну разделить добычу. Это было невообразимое скопление вещей, сами по себе они были хороши, но безумие человеческое придавало им вид награбленного добра.
Достойная компания называла себя экспедицией для исследования Эльдорадо, и я думаю, что члены ее были связаны клятвой хранить тайну. Однако разговоры их напоминали непристойную болтовню пиратов,- разговоры циничные, хищные и жестокие, но отнюдь не мужественные или смелые. Никаких серьезных намерений или предусмотрительности не было ни у одного из этой банды, и они, казалось, даже не подозревали, что это необходимо для работы. Единственным их желанием было вырвать сокровище из недр страны, а моральными принципами они интересовались не больше, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф. Кто оплачивал расходы этой почтенной экспедиции - я не знаю, но во главе банды стоял дядя нашего начальника.
Внешне он походил на мясника из бедного квартала, и глаза у него были заспанные и хитрые. С надменным видом носил он на коротеньких ножках свой толстый живот и, пока его шайка отравляла воздух станции, не разговаривал ни с кем, кроме своего племянника. Можно было наблюдать, как эти двое целыми днями бродят вместе, погруженные в нескончаемую беседу.
Я перестал терзать себя мыслями о заклепках. Способность предаваться такому безумию более ограничена, чем вы себе представляете. Я послал все к черту и положился на волю судьбы. Времени для размышлений у меня было сколько угодно, и иногда я подумывал о Куртце. Я не особенно им интересовался, но все же мне любопытно было узнать, достигнет ли вершины этот человек, вооруженный какими-то моральными принципами, и как он тогда примется за дело.
II
Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса: оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом:
- Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно...
Я понял, что эти двое остановились на берегу у носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. Я не пошевельнулся: мне хотелось спать.
- Действительно, это неприятно,- проворчал дядя.
- Он просил правление прислать его сюда,- сказал племянник,- имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек! Не ужасно ли это?
Собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний:
- Все может... один человек... правление... водит за нос...- Обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. Я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес:
- Благодаря климату это затруднение может быть устранено. Он там один?
- Да,- отвечал начальник.- Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях: "Отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы мне можете дать". Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость?
- А с тех пор он что-нибудь присылал?- проворчал дядя.
- Слоновую кость,- отрывисто бросил племянник.- Много слоновой кости... первосортной... чрезвычайно неприятно...
- А кроме слоновой кости?- прогудел дядя.
- Накладную,- ответил, словно из ружья выстрелил, племянник.
Последовало молчание. Речь шла о Куртце.
К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее.
- Каким образом была доставлена сюда слоновая кость?- пробурчал дядя, видимо очень раздраженный.
Тот объяснил, что она прибыла с флотилией каноэ, которою командовал английский клерк, полукровка, состоявший при Куртце. Куртц, видимо, сам намеревался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта, но, сделав триста миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость.
Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел Куртца - увидел отчетливо: челнок, четыре гребца-дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к Центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может - к мечтам о родине, и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Может быть, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени, они говорили "тот человек". Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе, как "тот негодяй". "Негодяй" доложил, что "тот человек" был тяжело болен и не совсем еще оправился... Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. Я слышал обрывки фраз: "Военный пост... доктор... двести миль... совсем один теперь... неизбежное промедление... девять месяцев... никаких вестей... Странные слухи..."
Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил:
- Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня - кажется, странствующего торговца,- отбирающего у туземцев слоновую кость.
О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Куртца и не заслуживает одобрения начальника.
- Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для острастки,- сказал начальник.
- Правильно,- проворчал дядя.- Пусть его повесят! Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. Я тебе говорю: здесь - ты понимаешь?- здесь никто тебе не опасен. А почему? Потому что ты выносишь этот климат; ты их всех переживешь. Опасность в Европе; но перед отъездом я позаботился о том, чтобы...
Они отошли и заговорили шепотом; потом племянник повысил голос:
- Я не виноват, что произошла такая задержка. Я сделал все, что мог.
Толстяк вздохнул:
- Очень печально.
- Послушали б вы его нелепую и зловредную болтовню!- продолжал тот.- Он мне здорово надоел, пока был здесь. "Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу; это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения". Представляете себе - какой осел! И он хочет быть начальником! Нет, это...
Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял Голову. Я и не подозревал, что они стоят так близко. Я бы мог плюнуть им на шляпы. Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлестывал себя прутиком по ноге; проницательный его родственник поднял голову и спросил:
- Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?
Тот вздрогнул:
- Кто? Я? О, я словно заколдован. Но остальные! Боже мой! Все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину... Просто невероятно!
- Гм... так...- пробормотал дядя.- Ах, мой мальчик, на это и уповай!
Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения.
Они оба громко выругались - должно быть, от испуга,- затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко; они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.
Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. В то время меня волновала надежда очень скоро увидеть Куртца. "Очень скоро" не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Куртца.
Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. Воздух был теплый, густой, тяжелый, сонный. Не было радости в блеске солнечного света. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала среди заросших лесом островов. Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня натыкаться на мели, пытаясь найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то... где-то... быть может - в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредотченной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании. Впоследствии я к нему привык и перестал обращать на него внимание,- у меня не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. Я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность - реальность, говорю вам - блекнет. Сокровенная истина остается скрытой - к счастью. Но все-таки я ее ощущал - безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньими фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь - каждый на своем канате,- ради чего? Ради дешевого трюка...
***
Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Куртца, затем слова: "Воспользоваться этим печальным случаем". Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера.
- Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно,- сказал он и отошел.
Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те, со своей стороны, утверждали что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от тлеющих развалин.
Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в серебряной оправе, но и имеет в своем распоряжении свечу - целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками; копья, ассегаи, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев.
Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше года... в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало - не знаю чего... быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы; таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали - все эти шестнадцать или двадцать пилигримов; честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное,- как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа напоказ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. Есть, в конце концов, какая-то Причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок. Лошадь украдена. Ну что ж! Вор пошел напрямик. Быть может, он умеет ездить верхом. Но иной так посмотрит на недоуздок, что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка.
Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным, но, пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается - хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе-гробе и т.д. Маленькие глазки его блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно.
Сначала я недоумевал, потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. Я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было: меня лихорадило, а голова забита была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая меня, очевидно, за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут взгляд мой упал на маленький эскиз масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которая держит в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной, и что-то зловещее было в ее лице, освещенном факелом.
Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского (медицинское снадобье) с воткнутой в нее свечкой.
На мой вопрос он ответил, что картина писана мистером Куртцем на этой самой станции больше года тому назад, пока он ждал оказии, чтобы добраться до своего поста.
- Скажите мне, пожалуйста,- попросил я,- кто такой этот мистер Куртц?
- Начальник Внутренней станции,- коротко ответил он, глядя в сторону.
- Благодарю вас,- со смехом отозвался я.- А вы выделываете кирпичи на Центральной станции. Все это знают.
Минутку он помолчал, потом произнес:
- Куртц - диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего еще. Для ведения дела,- начал он вдруг декламировать,- доверенного нам Европой, нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели.
- Кто это говорит?- спросил я.
- Очень многие,- отозвался он.- Иные даже пишут об этом. И вот он является сюда - исключительная личность, как вам должно быть известно.
- Почему я должен это знать?- с удивлением перебил я.
Он не обратил на меня внимания.
- Да. Сегодня он стоит во главе лучшей станции, на следующий год он будет помощником начальника Центральной станции, еще два года - и... Но полагаю, вам известно, кем он будет через два года. Вы принадлежите к этой новой банде - банде служителей добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. О, не отрицайте. Я не слепой!
Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть не расхохотался.
- Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы?- спросил я.
Он не нашелся, что ответить. Это было очень забавно. Я сурово сказал:
- Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Куртц будет начальником всех станций.
Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось шипение; облако пара поднималось в лунном свете; где-то стонал избитый негр.
- Как ревет эта скотина!- воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас.- Поделом ему! Преступление... наказание... готово! Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ. Это положит конец всяким пожарам. Я только что говорил начальнику...- Тут он заметил моего спутника и сразу оробел.- Вы еще не спите?- пробормотал он с раболепной вежливостью.- Ну конечно! Это так естественно. Да! Опасность, волнение...
Он скрылся. Я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот:
- Сборище идиотов!
Видны были группы пилигримов, жестикулировавших, споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать ложились с ними. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, молчание этой страны проникало в самое сердце,- тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздохнул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку.
- Дорогой сэр,- сказал мой спутник,- я не хочу быть непонятым вами - вами, который увидит мистера Куртца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я. Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении.
Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальника, и я понимал, что приезд этого Куртца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи - первобытной грязи!- щекотал мне ноздри; перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес; блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку,- я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды. Во всем было величие, ожидание, немота, а этот человек бормотал что-то о себе. Видя это спокойствие на обращенном к нам лике необъятного пространства, я задавал себе вопрос: нужно ли видеть в этом призыв или угрозу? Кто мы, забравшиеся сюда?
Сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши, немой и, быть может, лишенной слуха. Что таилось в ней? Я знал - оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер Куртц. О да, о нем мне прожужжали уши! Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. Если вы его спрашивали, какой вид они имеют или как они себя держат, он робел и бормотал, что они "ходят на четвереньках". Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он - шестидесятилетний старик - вступил с вами в драку.
Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за Куртца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете: ложь я ненавижу, не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что она меня страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения - как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным, вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь Курцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь?
Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон - делаю тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна, эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каковое и является самой сущностью сновидения...
***
Марлоу на секунду умолк.
- ...Нет. это невозможно, невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период, невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в одиночестве...
Он снова задумался, потом добавил:
- Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете...
Сумерки сгустились, и мы - слушатели - едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший в стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал. Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванное этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой.
***
- ...Да, я не мешал ему говорить,- снова начал Марлоу,- не мешал думать что угодно о влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал! А за моей спиной не было никого и ничего! Ничего, кроме этого несчастного, старого, искалеченного парохода, к которому я прислонился, пока он плавно говорил о "необходимости для каждого человека продвинуться в жизни". "И вы понимаете, сюда приезжают не затем, чтобы глазеть на луну". Мистер Куртц был "универсальным гением", но даже гению легче работать С "соответствующими инструментами - умными людьми". Он - мой собеседник - не выделывал кирпичей: не было материалов, как я сам прекрасно знаю; а если он выполнял обязанности секретаря, то "разве разумный человек станет ни с того ни с сего отказываться от знаков доверия со стороны начальства?"
Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно?.. Клянусь небом, мне нужны были заклепки! Заклепки. Чтобы продолжать работу... заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики с заклепками, ящики открытые, разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками,- а здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но нечем было их закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами: с дрянным глянцевитым коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пенни за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклепки. А ведь три носильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду.
Теперь мой собеседник стал фамильярным, но, кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни Бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что нимало в этом не сомневаюсь, но что в данный момент мне нужны заклепки и того же пожелал бы и мистер Куртц, если бы об этом знал. Письма отправляют каждую неделю...
- Дорогой сэр,- воскликнул он,- я пишу то, что мне диктуют!
Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ...
Он изменил свое обращение: стал очень холоден и вдруг перевел разговор на гиппопотама; поинтересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту (ибо я не покидал парохода ни днем ни ночью). У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночи напролет. Но вся энергия была израсходована даром.
- У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его,- пояснил он мне,- но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек - вы меня понимаете?- ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь.
Он остановился, освещенный луной, тонкий горбатый нос был слегка искривлен, слюдяные глазки поблескивали, он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я видел, что он взволнован и заинтригован, и это сильно меня обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу - разбитому, искалеченному, продырявленному горшку - пароходу. Я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из под сухарей Хентли и Палмера, отброшенная ногой в канаву; впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. Я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы - никто ее не любит,- но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное "я", скрытое от всех остальных, найти его для себя, не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда не могут сказать, что за ней скрывается.
Я нисколько не удивился, увидав, что кто-то сидит на палубе, свесив ноги за борт. Я, видите ли, подружился с несколькими механиками, которые жили на станции. Остальные пилигримы, конечно, их презирали... Должно быть, потому, что их манеры оставляли желать лучшего. На корме сидел надсмотрщик - котельщик по профессии,- хороший работник. Это был тощий, костлявый, желтолицый человек с большими внимательными глазами. Вид у него был озабоченный, череп голый, как моя ладонь; но волосы, выпадая, казалось, прилипли к подбородку и прекрасно привились на новом месте, так как борода его доходила до пояса. Он был вдовцом с шестью маленькими детьми (чтобы приехать сюда, он их оставил на попечение сестры) и питал страсть к голубям. О них он говорил с восторгом, как знаток и энтузиаст. После работы он частенько приходил ко мне из своей хижины, чтобы потолковать о своих детях и своих голубях. В рабочие часы, когда ему приходилось ползать в грязи под килем парохода, он обвязывал свою бороду чем-то вроде белой салфетки. К салфетке приделаны были петли, надевавшиеся на уши.
По вечерам он, присев на корточки, старательно стирал свою тряпку в заливчике, а потом торжественно вешал ее на куст для просушки.
Я хлопнул его по спине и крикнул:
- У нас будут заклепки!
Он поднялся на ноги, восклицая:
- Да что вы! Заклепки!- словно не верил своим ушам. Потом понизил голос:
- Вы... а?
Не знаю, почему мы вели себя как сумасшедшие. Я приложил палец к носу и таинственно кивнул головой.
- Здорово!- закричал он и, подняв одну ногу, щелкнул пальцами над головой. Я стал отплясывать жигу. Мы прыгали по железной палубе. Оглушительно задребезжало старое судно, а девственный лес на другом берегу отозвался грохочущим эхом, прокатившимся над спящей станцией. Должно быть, кое-кто из пилигримов проснулся в своей хижине. В дверях освещенной хижины начальника показалась чья-то темная фигура; вскоре она скрылась, а затем, через секунду, исчез и просвет в дверях. Мы остановились, и тишина, спугнутая топотом наших ног, снова хлынула к нам из леса. Высокая стена растительности, масса переплетенных ветвей, листьев, сучьев, стволов, неподвижная в лучах луны, походила на стремительную лавину немой жизни, на вздыбившийся, увенчанный гребнем зеленый вал, готовый рухнуть в заливчик и смести с лица земли нас - жалких маленьких человечков. Но стена оставалась неподвижной. Издалека доносился заглушенный могучий храп и плеск, словно какой-то ихтиозавр принимал лунную ванну в великой реке.
- В конце концов,- рассудительно сказал котельщик,- почему бы нам не получить заклепок?
И в самом деле! Я не видел причины, почему мы могли бы их не получить.
- Они прибудут через три недели,- доверчиво сказал я.
Но они не прибыли. Вместо заклепок нас ожидало нашествие, испытание, кара. Отдельными группами стали являться посетители, и это продолжалось три недели. Впереди каждого отряда шел осел, который нес на своей спине белого в новом костюме и коричневых ботинках, раскланивавшегося на обе стороны с ошеломленными пилигримами. По пятам за ослом следовала толпа ворчливых, угрюмых негров с натруженными ногами. Палатки, походные стулья, цинковые ящики, белые коробки, темные тюки свалены были во дворе, и атмосфера тайны сгущалась над бестолочью станции. Пять раз повторялись эти вторжения; казалось, что люди беспорядочно обратились в бегство, прихватив с собой товары из бесчисленных складов мануфактуры и провианта, чтобы здесь - в глуши - поровну разделить добычу. Это было невообразимое скопление вещей, сами по себе они были хороши, но безумие человеческое придавало им вид награбленного добра.
Достойная компания называла себя экспедицией для исследования Эльдорадо, и я думаю, что члены ее были связаны клятвой хранить тайну. Однако разговоры их напоминали непристойную болтовню пиратов,- разговоры циничные, хищные и жестокие, но отнюдь не мужественные или смелые. Никаких серьезных намерений или предусмотрительности не было ни у одного из этой банды, и они, казалось, даже не подозревали, что это необходимо для работы. Единственным их желанием было вырвать сокровище из недр страны, а моральными принципами они интересовались не больше, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф. Кто оплачивал расходы этой почтенной экспедиции - я не знаю, но во главе банды стоял дядя нашего начальника.
Внешне он походил на мясника из бедного квартала, и глаза у него были заспанные и хитрые. С надменным видом носил он на коротеньких ножках свой толстый живот и, пока его шайка отравляла воздух станции, не разговаривал ни с кем, кроме своего племянника. Можно было наблюдать, как эти двое целыми днями бродят вместе, погруженные в нескончаемую беседу.
Я перестал терзать себя мыслями о заклепках. Способность предаваться такому безумию более ограничена, чем вы себе представляете. Я послал все к черту и положился на волю судьбы. Времени для размышлений у меня было сколько угодно, и иногда я подумывал о Куртце. Я не особенно им интересовался, но все же мне любопытно было узнать, достигнет ли вершины этот человек, вооруженный какими-то моральными принципами, и как он тогда примется за дело.
II
Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса: оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом:
- Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно...
Я понял, что эти двое остановились на берегу у носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. Я не пошевельнулся: мне хотелось спать.
- Действительно, это неприятно,- проворчал дядя.
- Он просил правление прислать его сюда,- сказал племянник,- имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек! Не ужасно ли это?
Собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний:
- Все может... один человек... правление... водит за нос...- Обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. Я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес:
- Благодаря климату это затруднение может быть устранено. Он там один?
- Да,- отвечал начальник.- Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях: "Отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы мне можете дать". Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость?
- А с тех пор он что-нибудь присылал?- проворчал дядя.
- Слоновую кость,- отрывисто бросил племянник.- Много слоновой кости... первосортной... чрезвычайно неприятно...
- А кроме слоновой кости?- прогудел дядя.
- Накладную,- ответил, словно из ружья выстрелил, племянник.
Последовало молчание. Речь шла о Куртце.
К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее.
- Каким образом была доставлена сюда слоновая кость?- пробурчал дядя, видимо очень раздраженный.
Тот объяснил, что она прибыла с флотилией каноэ, которою командовал английский клерк, полукровка, состоявший при Куртце. Куртц, видимо, сам намеревался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта, но, сделав триста миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость.
Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел Куртца - увидел отчетливо: челнок, четыре гребца-дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к Центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может - к мечтам о родине, и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Может быть, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени, они говорили "тот человек". Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе, как "тот негодяй". "Негодяй" доложил, что "тот человек" был тяжело болен и не совсем еще оправился... Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. Я слышал обрывки фраз: "Военный пост... доктор... двести миль... совсем один теперь... неизбежное промедление... девять месяцев... никаких вестей... Странные слухи..."
Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил:
- Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня - кажется, странствующего торговца,- отбирающего у туземцев слоновую кость.
О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Куртца и не заслуживает одобрения начальника.
- Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для острастки,- сказал начальник.
- Правильно,- проворчал дядя.- Пусть его повесят! Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. Я тебе говорю: здесь - ты понимаешь?- здесь никто тебе не опасен. А почему? Потому что ты выносишь этот климат; ты их всех переживешь. Опасность в Европе; но перед отъездом я позаботился о том, чтобы...
Они отошли и заговорили шепотом; потом племянник повысил голос:
- Я не виноват, что произошла такая задержка. Я сделал все, что мог.
Толстяк вздохнул:
- Очень печально.
- Послушали б вы его нелепую и зловредную болтовню!- продолжал тот.- Он мне здорово надоел, пока был здесь. "Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу; это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения". Представляете себе - какой осел! И он хочет быть начальником! Нет, это...
Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял Голову. Я и не подозревал, что они стоят так близко. Я бы мог плюнуть им на шляпы. Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлестывал себя прутиком по ноге; проницательный его родственник поднял голову и спросил:
- Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?
Тот вздрогнул:
- Кто? Я? О, я словно заколдован. Но остальные! Боже мой! Все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину... Просто невероятно!
- Гм... так...- пробормотал дядя.- Ах, мой мальчик, на это и уповай!
Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения.
Они оба громко выругались - должно быть, от испуга,- затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко; они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.
Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. В то время меня волновала надежда очень скоро увидеть Куртца. "Очень скоро" не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Куртца.
Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. Воздух был теплый, густой, тяжелый, сонный. Не было радости в блеске солнечного света. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала среди заросших лесом островов. Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня натыкаться на мели, пытаясь найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то... где-то... быть может - в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредотченной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании. Впоследствии я к нему привык и перестал обращать на него внимание,- у меня не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. Я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность - реальность, говорю вам - блекнет. Сокровенная истина остается скрытой - к счастью. Но все-таки я ее ощущал - безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньими фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь - каждый на своем канате,- ради чего? Ради дешевого трюка...
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
...
- Старайтесь быть вежливым, Марлоу,- проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит.
***
- Прошу прощения. Я позабыл, что наградой является сердечная боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался? Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судна при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом. В конце концов, для моряка непростительный грех - сорвать дно с судна, плавающего под его командой. Может, никто об этом не узнает, но вам этого не забыть. Удар в самое сердце. Вы о нем думаете, он вам снится, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя,- и вас бросает то в жар, то в холод.
Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята - каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию - мясо гиппопотама, оно начало гнить, и противный запах, отравивший таинственные дебри, щекотал мне ноздри. Фу! Я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима с посохами. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега, на границе с неведомым, и белые люди, выбегавшие из полуразвалившегося шалаша и жестикулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова "слоновая кость" звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за извивами реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъятных, стремящихся ввысь; а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралось маленькое закопченное паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень, маленьким покинутым, но это чувство не угнетало. В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук поля вперед,- а этого вы и добивались. Куда, по мнению пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня он полз к Куртцу, и только к Куртцу; но, когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно.
Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне, миру, молитве,- мы не могли угадать. Предвозвестниками рассвета спускались прохлада и тишина; дровосеки спали, догорали их костры; треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле доисторических времен - на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом.
Но иногда за поворотом реки под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы, слышались крики, топот, раскачивались черные тела, сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал... кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков - тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.
Земля казалась не похожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь... здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на землю, а люди... нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они - такие же люди, как вы,- мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. Ужасно? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла - смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом вое? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство,- кто знает?- но истина была в нем,- истина, с которой сорвано покрывало веков.
Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть, во всяком случае, не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы? Принципы не помогут. Это - оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж! Я его слышу, принимаю, но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченными чувствами, опасности не подвергается.
Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участия в вое и пляске? Да, я этого не сделал. Утонченные чувства, скажете вы? К черту утонченные чувства! У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, оторванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наше старое корыто. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр: он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с пером. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость, а ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов; курчавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалось по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал - раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся спасительных знаний. Он был полезен, так как его обучили. А знал он вот что: если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его мщение. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом; экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости величиной с карманные часы украшал его нижнюю губу. Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Куртцу. Но часто попадались коряги, обманчива и мелководна была река, а в котле как будто и в самом деле обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям.
В пятидесяти милях ниже Внутренней станции мы увидели шалаш из камыша, меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли: "Дрова заготовлены для вас. Спешите. Подходите осторожно".
Далее следовала подпись, которую мы не могли разобрать,- во всяком случае, не "Куртц", какое-то более длинное слово. "Спешите". Куда? К верховьям реки? "Подходите осторожно". Мы не соблюдали осторожности. Но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконичного стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развеваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол - доска на двух столбиках, в темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу; она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, еще не успевшей загрязниться. Необычайная находка! Книга называлась "Исследование некоторых вопросов по навигации" и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота его величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное шестьдесят лет назад.
С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоусон или Тоуэр весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талей. Не очень занимательная книга, но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу; вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и талях, заставил меня позабыть о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попалось мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам: заметки были шифрованные! Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру! Из ряда вон выходящая тайна!
Мне помешал какой-то шум; подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальник и все пилигримы, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом.
Я пустил в ход искалеченную машину.
- Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза!- воскликнул начальник Центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш.
- Быть может, он - англичанин,- сказал я.
- Это его не спасет от беды, если он не поостережется,- мрачно пробормотал начальник.
С притворной наивностью я заметил, что в этом мире ни один человек не может почитать себя застрахованным от беды.
Здесь, в верховьях, течение было быстрее; пароход, казалось, находился при последнем издыхании; лениво разбивало воду кормовое гребное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни. Но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу Куртцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник проявлял великолепное спокойствие. Я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с Куртцем. Но раньше чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои, и мое молчание, да и любой поступок не имеют, в сущности, никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое вмешательство ничего не изменит.
К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Куртца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плавание в этих местах сопряжено с опасностью, и так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумнее будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать восемь миль, нам требовалось около трех часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную рябь. Тем не менее эта отсрочка очень меня раздосадовала; безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев?
Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с берегами высокими, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон,- такая неподвижность казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте; затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба, и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки.
Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом... все было неподвижно... и потом снова спустилась белая штора плавно, как по смазанным желобам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успело замолкнуть заглушенное звяканье, когда раздался крик - громкий крик,- исполненный безграничной тоски, и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие, негармоничные. От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников; мне казалось, что туман разразился воплями,- так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг, и оборвался внезапно, а мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики.
- Боже мой! Что же это такое?- простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, фута в два шириной, вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени.
Я прошел на нос и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь.
- Нападут ли они?- раздался чей-то испуганный голос.
- Нас перебьют в этом тумане!- прошептал другой.
Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражение лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой.
- Вот оно что!- сказал я, чтобы завязать разговор.
- Поймай их,- отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами.- Поймай их. Отдай их нам.
- Вам?- переспросил я.- А что вы будете с ними делать?
- Съедим их!- коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели, должно быть, очень голодны и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев (не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века; они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом). Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью.
Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки - в каждом куске было около девяти дюймов; рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавшей иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалованья, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалованье выплачивалось аккуратно и это делало честь крупной и почтенной торговой фирме.
Что же касается провизии, то я видел у чернокожих какие-то странные, отнюдь не съедобные на вид куски грязновато-лилового цвета, похожие на полусырое тесто; они заворачивали его в листья и иногда отщипывали по кусочку, но кусочки эти были такие маленькие, что о насыщении и речи быть не могло. Почему во имя всех гложущих демонов голода чернокожие не расправились с нами - их было тридцать, а нас пятеро - и не устроили себе хоть раз в жизни пиршества, я не понимаю и по сей день. Они были дюжими, здоровыми людьми, неспособными задумываться о последствиях, мужественными и сильными даже теперь, когда кожа их уже не лоснилась, а мускулы потеряли упругость. Я решил, что здесь мы имеем дело с каким-то сдерживающим началом - с одной из тех тайн человеческой природы, перед которой пасуют все догадки.
Я посмотрел на них с любопытством, но заинтересовало меня не то, что они в самом непродолжительном времени могли меня съесть. Впрочем, признаюсь, в ту минуту я как-то по-новому обратил внимание на болезненный вид пилигримов, втайне надеясь - да, надеясь!- что сам я выгляжу не таким... как бы это сказать?.. не таким неаппетитным. Это была вспышка нелепого тщеславия, вполне гармонировавшая с тем дремотным состоянием, в каком я пребывал все эти дни. Пожалуй, меня немного лихорадило. Человек не может жить, вечно следя за своим пульсом. Меня часто лихорадило, или то были приступы других болезней: дикая глушь, перед тем как перейти в атаку - что и случилось впоследствии,- шутливо поглаживала меня своей лапой. Да, я смотрел на них с тем любопытством, с каким присматриваемся мы к людям; меня интересовали их импульсы, мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание! Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду, никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они отнюдь не надежнее соломинки, подхваченной вихрем.
Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку, знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату, бесчестье, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так! И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка! С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо - факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны,- факт более таинственный, чем странная, необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана.
Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик:
- На левом.
- Нет, нет! Что вы говорите? На правом, конечно на правом!
- Положение серьезное,- раздался за моей спиной голос начальника.- Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Куртцем раньше, чем мы прибудем на место.
Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличия. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я даже не потрудился ему ответить. Я знал - и он знал,- что это невозможно. Если б мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем - вверх или вниз по течению или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег; да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристаем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не сразу, мы бы все равно погибли - так или иначе.
- Я предлагаю вам идти на риск,- сказал он, помолчав.
- Я отказываюсь рисковать,- коротко ответил я.
Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить.
- В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы - капитан,- произнес он с подчеркнутой вежливостью.
Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман нимало меня не обнадежил. Приближение к Куртцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящей в сказочном замке.
- Как вы думаете, нападут ли они?- конфиденциально спросил начальник.
По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если б сдвинулись с Места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми... хотя они имели глаза - глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно; во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. Опасность, объяснял я, заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой страстью. Даже скорбь может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию.
Если б вы видели, как таращили глаза пилигримы! У них не хватало духу высмеять или хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума - от страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться настороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью; но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату - удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было по существу лишь попыткой отразить наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было; она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.
Это произошло в полутора милях от станции Куртца, через два часа после того, как рассеялся туман. Мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок - холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что от холмика тянется длинная песчаная коса, или, вернее, цепь островков, бесцветных и едва поднимающихся над водой; все они были связаны подводной мелью, тянувшейся по середине потока; эта мель видна была под водой так же, как виден под кожей позвоночный столб человека. Теперь я мог идти направо или налево отмели. Я не знал, какой проход избрать. Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались; но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив.
Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Слева тянулась длинная мель, а справа высокий крутой берег, заросший кустами. Над кустарником рядами вздымались деревья. Ветви нависли над рекой, и кое-где дерево протягивало с берега гигантский сук. День клонился к вечеру, пасмурным казался лес, и широкая полоса тени уже легла на воду. В этой тени мы очень медленно продвигались вперед. Я вел судно, придерживаясь берега; здесь было глубже, как показал шест для измерения глубины.
Один из моих голодных и терпеливых друзей негров измерял глубину, стоя на носу как раз подо мною. Этот пароход походил на палубное плоскодонное судно. На палубе находились два домика из тикового дерева с дверями и окнами. Котел помещался на носу, а машины - на корме. Над всей палубой тянулась легкая крыша на столбах. Труба проходила через эту крышу, а перед трубой возвышалось маленькое дощатое строение, служившее рулевой рубкой. Здесь помещался штурвал, кушетка, два складных стула, крохотный столик и заряженная мортира, прислоненная в углу. Дверь выходила на нос; справа и слева были широкие ставни, никогда не закрывавшиеся. Целые дни я проводил на самом конце крыши перед дверью. Ночью спал или пытался спать на кушетке. Атлетический негр из какого-то берегового племени, обученный бедным моим предшественником, исполнял обязанности рулевого. Он носил медные серьги и обертывал себе бедра куском голубой материи, спускавшимся до лодыжек. О себе он был самого высокого мнения. Я его считал самым ветреным дураком, какого мне когда-либо приходилось видеть. При вас он с самонадеянным видом управлял рулем, но стоило вам уйти, как он пугался и наш калека пароход мог в одну минуту одержать над ним верх.
Я смотрел вниз, на шест для измерения глубины, с досадой отмечая, что река все мелеет, как вдруг мой негр, не потрудившись втащить шест, плашмя растягивается на палубе. Однако шеста он из рук не выпустил, и шест волочился по воде. В то же время кочегар, которого я тоже мог видеть с крыши, внезапно уселся перед своей топкой и втянул голову в плечи. Я удивился и бросил взгляд на реку, так как нам предстояло обогнуть корягу. Палочки, маленькие палочки летали в воздухе; их было много; они свистели перед самым моим носом, падали к моим ногам, ударялись о стенки рулевой рубки за моей спиной. А в это время на реке, на берегу в кустах было тихо - полная тишина. Я слышал только тяжелые удары колеса на корме да постукивание падающих палочек. Неуклюже обогнули мы корягу. Стрелы, клянусь Богом, стрелы! Нас обстреливали! Я поспешно вошел в рубку, чтобы закрыть ставень со стороны берега. Этот дурак рулевой, держа руки на штурвале, приплясывал и жевал губами, словно взнузданная лошадь. Черт бы его побрал! А мы тащились в десяти футах от берега.
Мне пришлось высунуться, чтобы закрыть тяжелый ставень, и я увидел в листве лицо на уровне с моим лицом и глаза, злобно на меня смотревшие в упор; и вдруг словно кто-то снял пелену, застилавшую мне зрение, и я разглядел в полутьме среди переплетенных ветвей обнаженные торсы, руки, ноги, сверкающие глаза - в кустах кишели человеческие тела бронзового цвета. Ветки дрожали, раскачивались, трещали, стрелы вылетали из кустов. Я закрыл ставень.
...
- Старайтесь быть вежливым, Марлоу,- проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит.
***
- Прошу прощения. Я позабыл, что наградой является сердечная боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался? Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судна при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом. В конце концов, для моряка непростительный грех - сорвать дно с судна, плавающего под его командой. Может, никто об этом не узнает, но вам этого не забыть. Удар в самое сердце. Вы о нем думаете, он вам снится, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя,- и вас бросает то в жар, то в холод.
Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята - каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию - мясо гиппопотама, оно начало гнить, и противный запах, отравивший таинственные дебри, щекотал мне ноздри. Фу! Я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима с посохами. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега, на границе с неведомым, и белые люди, выбегавшие из полуразвалившегося шалаша и жестикулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова "слоновая кость" звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за извивами реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъятных, стремящихся ввысь; а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралось маленькое закопченное паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень, маленьким покинутым, но это чувство не угнетало. В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук поля вперед,- а этого вы и добивались. Куда, по мнению пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня он полз к Куртцу, и только к Куртцу; но, когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно.
Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне, миру, молитве,- мы не могли угадать. Предвозвестниками рассвета спускались прохлада и тишина; дровосеки спали, догорали их костры; треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле доисторических времен - на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом.
Но иногда за поворотом реки под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы, слышались крики, топот, раскачивались черные тела, сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал... кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков - тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.
Земля казалась не похожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь... здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на землю, а люди... нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они - такие же люди, как вы,- мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. Ужасно? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла - смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом вое? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство,- кто знает?- но истина была в нем,- истина, с которой сорвано покрывало веков.
Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть, во всяком случае, не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы? Принципы не помогут. Это - оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж! Я его слышу, принимаю, но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченными чувствами, опасности не подвергается.
Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участия в вое и пляске? Да, я этого не сделал. Утонченные чувства, скажете вы? К черту утонченные чувства! У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, оторванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наше старое корыто. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр: он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с пером. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость, а ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов; курчавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалось по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал - раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся спасительных знаний. Он был полезен, так как его обучили. А знал он вот что: если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его мщение. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом; экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости величиной с карманные часы украшал его нижнюю губу. Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Куртцу. Но часто попадались коряги, обманчива и мелководна была река, а в котле как будто и в самом деле обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям.
В пятидесяти милях ниже Внутренней станции мы увидели шалаш из камыша, меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли: "Дрова заготовлены для вас. Спешите. Подходите осторожно".
Далее следовала подпись, которую мы не могли разобрать,- во всяком случае, не "Куртц", какое-то более длинное слово. "Спешите". Куда? К верховьям реки? "Подходите осторожно". Мы не соблюдали осторожности. Но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконичного стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развеваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол - доска на двух столбиках, в темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу; она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, еще не успевшей загрязниться. Необычайная находка! Книга называлась "Исследование некоторых вопросов по навигации" и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота его величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное шестьдесят лет назад.
С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоусон или Тоуэр весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талей. Не очень занимательная книга, но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу; вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и талях, заставил меня позабыть о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попалось мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам: заметки были шифрованные! Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру! Из ряда вон выходящая тайна!
Мне помешал какой-то шум; подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальник и все пилигримы, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом.
Я пустил в ход искалеченную машину.
- Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза!- воскликнул начальник Центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш.
- Быть может, он - англичанин,- сказал я.
- Это его не спасет от беды, если он не поостережется,- мрачно пробормотал начальник.
С притворной наивностью я заметил, что в этом мире ни один человек не может почитать себя застрахованным от беды.
Здесь, в верховьях, течение было быстрее; пароход, казалось, находился при последнем издыхании; лениво разбивало воду кормовое гребное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни. Но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу Куртцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник проявлял великолепное спокойствие. Я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с Куртцем. Но раньше чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои, и мое молчание, да и любой поступок не имеют, в сущности, никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое вмешательство ничего не изменит.
К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Куртца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плавание в этих местах сопряжено с опасностью, и так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумнее будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать восемь миль, нам требовалось около трех часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную рябь. Тем не менее эта отсрочка очень меня раздосадовала; безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев?
Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с берегами высокими, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон,- такая неподвижность казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте; затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба, и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки.
Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом... все было неподвижно... и потом снова спустилась белая штора плавно, как по смазанным желобам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успело замолкнуть заглушенное звяканье, когда раздался крик - громкий крик,- исполненный безграничной тоски, и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие, негармоничные. От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников; мне казалось, что туман разразился воплями,- так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг, и оборвался внезапно, а мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики.
- Боже мой! Что же это такое?- простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, фута в два шириной, вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени.
Я прошел на нос и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь.
- Нападут ли они?- раздался чей-то испуганный голос.
- Нас перебьют в этом тумане!- прошептал другой.
Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражение лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой.
- Вот оно что!- сказал я, чтобы завязать разговор.
- Поймай их,- отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами.- Поймай их. Отдай их нам.
- Вам?- переспросил я.- А что вы будете с ними делать?
- Съедим их!- коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели, должно быть, очень голодны и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев (не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века; они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом). Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью.
Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки - в каждом куске было около девяти дюймов; рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавшей иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалованья, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалованье выплачивалось аккуратно и это делало честь крупной и почтенной торговой фирме.
Что же касается провизии, то я видел у чернокожих какие-то странные, отнюдь не съедобные на вид куски грязновато-лилового цвета, похожие на полусырое тесто; они заворачивали его в листья и иногда отщипывали по кусочку, но кусочки эти были такие маленькие, что о насыщении и речи быть не могло. Почему во имя всех гложущих демонов голода чернокожие не расправились с нами - их было тридцать, а нас пятеро - и не устроили себе хоть раз в жизни пиршества, я не понимаю и по сей день. Они были дюжими, здоровыми людьми, неспособными задумываться о последствиях, мужественными и сильными даже теперь, когда кожа их уже не лоснилась, а мускулы потеряли упругость. Я решил, что здесь мы имеем дело с каким-то сдерживающим началом - с одной из тех тайн человеческой природы, перед которой пасуют все догадки.
Я посмотрел на них с любопытством, но заинтересовало меня не то, что они в самом непродолжительном времени могли меня съесть. Впрочем, признаюсь, в ту минуту я как-то по-новому обратил внимание на болезненный вид пилигримов, втайне надеясь - да, надеясь!- что сам я выгляжу не таким... как бы это сказать?.. не таким неаппетитным. Это была вспышка нелепого тщеславия, вполне гармонировавшая с тем дремотным состоянием, в каком я пребывал все эти дни. Пожалуй, меня немного лихорадило. Человек не может жить, вечно следя за своим пульсом. Меня часто лихорадило, или то были приступы других болезней: дикая глушь, перед тем как перейти в атаку - что и случилось впоследствии,- шутливо поглаживала меня своей лапой. Да, я смотрел на них с тем любопытством, с каким присматриваемся мы к людям; меня интересовали их импульсы, мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание! Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду, никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они отнюдь не надежнее соломинки, подхваченной вихрем.
Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку, знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату, бесчестье, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так! И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка! С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо - факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны,- факт более таинственный, чем странная, необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана.
Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик:
- На левом.
- Нет, нет! Что вы говорите? На правом, конечно на правом!
- Положение серьезное,- раздался за моей спиной голос начальника.- Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Куртцем раньше, чем мы прибудем на место.
Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличия. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я даже не потрудился ему ответить. Я знал - и он знал,- что это невозможно. Если б мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем - вверх или вниз по течению или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег; да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристаем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не сразу, мы бы все равно погибли - так или иначе.
- Я предлагаю вам идти на риск,- сказал он, помолчав.
- Я отказываюсь рисковать,- коротко ответил я.
Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить.
- В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы - капитан,- произнес он с подчеркнутой вежливостью.
Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман нимало меня не обнадежил. Приближение к Куртцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящей в сказочном замке.
- Как вы думаете, нападут ли они?- конфиденциально спросил начальник.
По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если б сдвинулись с Места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми... хотя они имели глаза - глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно; во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. Опасность, объяснял я, заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой страстью. Даже скорбь может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию.
Если б вы видели, как таращили глаза пилигримы! У них не хватало духу высмеять или хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума - от страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться настороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью; но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату - удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было по существу лишь попыткой отразить наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было; она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.
Это произошло в полутора милях от станции Куртца, через два часа после того, как рассеялся туман. Мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок - холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что от холмика тянется длинная песчаная коса, или, вернее, цепь островков, бесцветных и едва поднимающихся над водой; все они были связаны подводной мелью, тянувшейся по середине потока; эта мель видна была под водой так же, как виден под кожей позвоночный столб человека. Теперь я мог идти направо или налево отмели. Я не знал, какой проход избрать. Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались; но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив.
Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Слева тянулась длинная мель, а справа высокий крутой берег, заросший кустами. Над кустарником рядами вздымались деревья. Ветви нависли над рекой, и кое-где дерево протягивало с берега гигантский сук. День клонился к вечеру, пасмурным казался лес, и широкая полоса тени уже легла на воду. В этой тени мы очень медленно продвигались вперед. Я вел судно, придерживаясь берега; здесь было глубже, как показал шест для измерения глубины.
Один из моих голодных и терпеливых друзей негров измерял глубину, стоя на носу как раз подо мною. Этот пароход походил на палубное плоскодонное судно. На палубе находились два домика из тикового дерева с дверями и окнами. Котел помещался на носу, а машины - на корме. Над всей палубой тянулась легкая крыша на столбах. Труба проходила через эту крышу, а перед трубой возвышалось маленькое дощатое строение, служившее рулевой рубкой. Здесь помещался штурвал, кушетка, два складных стула, крохотный столик и заряженная мортира, прислоненная в углу. Дверь выходила на нос; справа и слева были широкие ставни, никогда не закрывавшиеся. Целые дни я проводил на самом конце крыши перед дверью. Ночью спал или пытался спать на кушетке. Атлетический негр из какого-то берегового племени, обученный бедным моим предшественником, исполнял обязанности рулевого. Он носил медные серьги и обертывал себе бедра куском голубой материи, спускавшимся до лодыжек. О себе он был самого высокого мнения. Я его считал самым ветреным дураком, какого мне когда-либо приходилось видеть. При вас он с самонадеянным видом управлял рулем, но стоило вам уйти, как он пугался и наш калека пароход мог в одну минуту одержать над ним верх.
Я смотрел вниз, на шест для измерения глубины, с досадой отмечая, что река все мелеет, как вдруг мой негр, не потрудившись втащить шест, плашмя растягивается на палубе. Однако шеста он из рук не выпустил, и шест волочился по воде. В то же время кочегар, которого я тоже мог видеть с крыши, внезапно уселся перед своей топкой и втянул голову в плечи. Я удивился и бросил взгляд на реку, так как нам предстояло обогнуть корягу. Палочки, маленькие палочки летали в воздухе; их было много; они свистели перед самым моим носом, падали к моим ногам, ударялись о стенки рулевой рубки за моей спиной. А в это время на реке, на берегу в кустах было тихо - полная тишина. Я слышал только тяжелые удары колеса на корме да постукивание падающих палочек. Неуклюже обогнули мы корягу. Стрелы, клянусь Богом, стрелы! Нас обстреливали! Я поспешно вошел в рубку, чтобы закрыть ставень со стороны берега. Этот дурак рулевой, держа руки на штурвале, приплясывал и жевал губами, словно взнузданная лошадь. Черт бы его побрал! А мы тащились в десяти футах от берега.
Мне пришлось высунуться, чтобы закрыть тяжелый ставень, и я увидел в листве лицо на уровне с моим лицом и глаза, злобно на меня смотревшие в упор; и вдруг словно кто-то снял пелену, застилавшую мне зрение, и я разглядел в полутьме среди переплетенных ветвей обнаженные торсы, руки, ноги, сверкающие глаза - в кустах кишели человеческие тела бронзового цвета. Ветки дрожали, раскачивались, трещали, стрелы вылетали из кустов. Я закрыл ставень.
...

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
...
- Держи прямо,- сказал я рулевому. Не поворачивая головы, он смотрел вперед, но глаза его были вытаращены, он потихоньку притопывал, и на губах у него выступила пена.
- Стой смирно!- крикнул я в бешенстве. Но с таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе; слышались заглушенные восклицания; кто-то взвизгнул:
- Нельзя ли повернуть назад?
Впереди я заметил рябь на воде. Как! Еще одна коряга! Под моими ногами началась стрельба. Пилигримы пустили в ход свои винчестеры и попусту швыряли свинец в кусты. Поднялось облако дыма и медленно поползло вперед. Я выругался. Теперь я не мог разглядеть ни ряби, ни коряги. Я стоял, выглядывая из-за двери, а стрелы летели тучами. Быть может, эти стрелы были отравлены, но, казалось, они не убили бы и кошки. В кустах поднялся вой. Наши дровосеки отвечали воинственным гиканьем. Ружейный выстрел раздался за моей спиной и оглушил меня. Я оглянулся через плечо; в рубке дым еще не рассеялся, когда я бросился к штурвалу. Оказывается, негр сорвался с места, открыл ставень и выстрелил из мортиры. Тараща глаза, он стоял перед широким отверстием, а я кричал на него, выпрямляя уклонившийся в сторону пароход. Здесь негде было повернуть, даже если бы я и намеревался это сделать; где-то впереди, очень близко от нас, скрывалась в проклятом дыму коряга. Времени нельзя было терять, и я подвел пароход к самому берегу - туда, где, как я знал, было глубоко.
Медленно ползли мы мимо нависших кустов под сыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Внизу обстрел прекратился. Я откинул голову, когда со свистом мелькнула стрела, влетевшая в одно окно рубки и вылетевшая в другое. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем, я различил неясные фигуры людей; они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось перед ставнем, ружье полетело за борт, а человек отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал, а конец какой-то длинной трости стукнул и опрокинул маленький складной стул. Похоже было на то, что негр, вырвав эту трость из рук человека на берегу, потерял равновесие и упал. Тонкий дымок рассеялся, коряга осталась позади, и, глядя вперед, я убедился, что через сотню ярдов можно будет отвести пароход подальше от берега.
Вдруг я почувствовал, что стою на чем-то очень теплом и мокром, и посмотрел вниз. Человек перевернулся на спину и смотрел прямо на меня; обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья; брошенное в окно рубки, копье вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку зияла страшная рана; мои ботинки были полны крови, под штурвалом виднелась блестящая темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Внизу снова началась ружейная стрельба. Он смотрел на меня с тревогой, сжимал копье, словно какую-то драгоценность, и как будто боялся, Что я попытаюсь отнять ее у него.
Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку и торопливо дал два свистка один за другим. Мгновенно смолкли злобные и воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась суматоха, град стрел прекратился, еще несколько выстрелов - и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса, В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный.
- Начальник послал меня...- начал он официальным тоном и вдруг запнулся.- Боже мой!- воскликнул он, заметив раненого.
Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке; но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными.
- Умеете вы править рулем?- нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть ботинки и носки.
- Он умер,- прошептал расстроенный пилигрим.
- Несомненно,- сказал я, дергая как сумасшедший шнурки ботинок.- И полагаю, что и мистера Куртца уже нет в живых.
В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большего разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью поговорить с мистером Куртцем. Поговорить с ним... Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился - к беседе с Куртцем. Я сделал страшное открытие: этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только - разговаривающим. Я не говорил себе: "Теперь я никогда его не увижу" или "теперь я не могу пожать ему руку", но - "теперь я никогда его не услышу". Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом, и из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить - дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы.
Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. "Черт возьми!- подумал я.- Все кончено. Мы опоздали. Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов я так и не услышу, как говорил этот парень..." В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, какая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру или я не оправдал своего назначения в жизни...
***
- Кто это там так глубоко вздыхает? Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж! Пусть - нелепо. Боже мой! Неужели человек не может... Послушайте, дайте-ка мне табаку.
Спустилось глубокое молчание, потом вспыхнула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изборожденное вертикальными складками; веки были опущены, вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла.
- Нелепо!- воскликнул он.- Что толку рассказывать!.. Здесь у каждого из вас имеется по два адреса, вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях; вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим - полисмен; аппетит у вас превосходный и температура нормальная... Понимаете?.. нормальная с начала до конца года. А вы говорите - нелепо!.. К черту нелепость! Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного Куртца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да! Я услыхал больше, чем было нужно. И я был прав, думая о его голосе. Голос - вот самое существенное, что у него осталось. И я услышал его - этот голос - и другие голоса; а воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса... и даже сама девушка...
Марлоу долго молчал.
***
- Призрак я заклял в конце концов ложью,- начал он внезапно.- Девушка! Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они - женщины, хочу я сказать,- стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если б вы слышали, как мистер Куртц - этот вырытый из земли труп - говорил: "Моя нареченная". Тогда вы бы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Куртца! Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот... гм... субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и - смотрите!- голова его уподобилась шару - шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и - о чудо!- он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну еще бы! Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. "Все больше ископаемые",- презрительно заметил начальник. Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым. Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Куртца от его судьбы.
Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Куртц мог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. Слыхали б вы, как он говорил: "Моя слоновая кость!" О, я его слышал! "Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое..." Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробегали по спине. Невозможно - и опасно - было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны - я говорю не иносказательно.
Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая, вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества - полного одиночества, без полисмена,- на путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении? Все эти мелочи и составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете оказаться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту: либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины.
Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас - лишь случайное пристанище, и я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля - место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность - преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко.
Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить - я хочу понять, понять мистера Куртца или тень мистера Куртца. Этот посвященный в таинства призрак из Ниоткуда, перед тем как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Куртц получил главным образом в Англии, и - как он сам соизволил сказать - эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец - наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Куртца. Как я со временем узнал, "Международное общество по просвещению дикарей" поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком семнадцать страниц! Но должно быть, это было им написано до того, как... ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Куртца председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его... вы понимаете? в честь самого мистера Куртца.
Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к статье кажется мне зловещим. Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, "должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги" - и так далее и так далее. "Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной..." Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия - пламенных, благородных слов.
Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы - видимо, спустя большой промежуток времени - была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста, и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: "Истребляйте всех скотов!" Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном постскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить "памфлет" (так называл он свою статью), который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился - и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса - туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Куртца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску; он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов; он приобрел, во всяком случае, одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом.
Да, я не могу его забыть, хотя и не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого; я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, вам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал, он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной - мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня - я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар... я помню по сей день как утверждение далекого родства.
Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня! У него не было выдержки - как не было ее у Куртца... Дерево, раскачиваемое ветром... Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом; плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы; я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.
Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок; возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело - я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать. Но с нижней палубы донесся до меня шепот - зловещий шепот. Мои друзья дровосеки также были скандализованы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом.
Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Куртца, увидеть станцию. Куртц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Куртц во всяком случае отомщен.
- Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам? А? Как вы думаете? Скажите?
Он буквально приплясывал - этот кровожадный рыжий человечек! А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал:
- Во всяком случае, дыму вы много напустили. Я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко.- Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружья у бедра и стреляли зажмурившись. Отступление, утверждал я - и не ошибался,- было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Куртце и негодующе запротестовали.
Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения.
- Что это?- спросил я.
Изумленный, он захлопал в ладоши и крикнул:
- Станция!
Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу.
В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой; издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины; судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу.
- На нас было нападение!- завопил начальник.
- Знаю, знаю. Все в порядке!- беззаботно заорал в ответ человек с берега.- Причаливайте. Все в порядке. Я очень рад.
Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: "На кого похож этот парень?" И вдруг вспомнил: он был похож на арлекина. Его костюм - кажется, из небеленого холста - был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами - синими, красными и желтыми; заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях; цветная полоса опоясывала куртку, алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый; безбородое мальчишеское лицо; ни одной резкой черты; маленькие голубые глазки; нос, с которого почти облупилась кожа; улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвеваемой ветром.
- Осторожнее, капитан!- крикнул он.- Здесь затонула прошлой ночью коряга.
Как? Еще одна коряга! Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик.
- Вы англичанин?- крикнул он, расплываясь в улыбке.
- А вы?- откликнулся я, стоя у штурвала.
Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием; потом снова просиял.
- Ну ничего!- ободряюще крикнул он.
- Не опоздали мы?- спросил я.
- Он там, наверху,- ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо - то пасмурное, то залитое солнечным светом.
Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, арлекин явился ко мне на борт.
- Послушайте, мне это не нравится,- сказал я,- туземцы бродят там в кустах.
Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил:
- Они - люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться.
- Но вы говорите, что все обстоит благополучно!- воскликнул я.
- О, у них не было злого умысла,- сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился:
- Да, в сущности, не было.- Потом быстро добавил:
- Ах, Боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить!
Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток.
- Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они - люди простые,- повторил он.
Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было,- он сам со смехом на это намекнул.
- Разве вы не разговариваете с мистером Куртцем?- спросил я.
- С этим человеком не разговаривают - его слушают!- воскликнул он восторженно и строго.- Но теперь...
Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и. не переставая их трясти, забормотал:
- Брат моряк... честь... удовольствие... наслаждение... разрешите представиться... русский... сын архиерея... Тамбовской губернии... Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски. Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?
Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул.
- Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свои кругозор...
- Здесь!- перебил я.
- Как можно знать заранее? Здесь я встретил мистера Куртца,- сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью.
Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом и потом отправился в глубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех.
- Я не так молод, как кажется. Мне двадцать пять лет,- сказал он.- Сначала старик Ван-Шьютен хотел послать меня к черту,- рассказывал он, от души забавляясь,- но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик голландец этот Ван-Шьютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?
Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался.
- Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее,- сказал он, смотря на нее словно в экстазе.- Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве! Иногда каноэ переворачиваются, а иногда приходится поскорей удирать, если туземцы рассердятся.
Он перелистывал книгу.
- Вы делали заметки на русском языке?- спросил я. Он кивнул головой.
- Я думал, что это какой-то шифр,- сказал я. Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил:
- Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами.
- Они хотели вас убить?- спросил я.
- О нет!- воскликнул он и умолк.
- Почему они на нас напали?- продолжал я.
Он замялся, потом сконфуженно сказал:
- Они не хотят, чтобы он уехал.
- Не хотят?- с любопытством переспросил я.
Он кивнул таинственно и многозначительно.
- Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор!- воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.
III
Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб.
- Я отправился в путь,- сказал он,- забирался понемногу все дальше и дальше и наконец зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну ничего! Времени много. Выживу. А вы увезите Куртца. И поскорей, поскорей, говорю вам.
Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищем, покинутом, одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себялюбивую мысль, и, когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Куртцу. О ней он не размышлял - он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.
Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и наконец соприкоснувшихся бортами. Думаю, Куртц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или - вернее - говорил один Куртц.
- Мы говорили обо всем,- с восторгом сообщил мне молодой человек.- Я позабыл о сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем! Обо всем!.. И о любви.
- А, он говорил с вами о любви!- сказал я, от души забавляясь.
- Не о той любви, о какой вы думаете!- страстно воскликнул он.- О любви вообще. Он показал мне мир - мир!
Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам, и - уверяю вас - никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости.
- И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним?- спросил я.
Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Куртца, когда тот два раза был болен (казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом), но обычно Куртц скитался один, забираясь в самые дебри лесов.
- Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения,- сказал он.- Ах, этого стоило ждать... иногда.
- Что же он делал? Исследовал страну?- спросил я.
- О да, конечно.
...
- Держи прямо,- сказал я рулевому. Не поворачивая головы, он смотрел вперед, но глаза его были вытаращены, он потихоньку притопывал, и на губах у него выступила пена.
- Стой смирно!- крикнул я в бешенстве. Но с таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе; слышались заглушенные восклицания; кто-то взвизгнул:
- Нельзя ли повернуть назад?
Впереди я заметил рябь на воде. Как! Еще одна коряга! Под моими ногами началась стрельба. Пилигримы пустили в ход свои винчестеры и попусту швыряли свинец в кусты. Поднялось облако дыма и медленно поползло вперед. Я выругался. Теперь я не мог разглядеть ни ряби, ни коряги. Я стоял, выглядывая из-за двери, а стрелы летели тучами. Быть может, эти стрелы были отравлены, но, казалось, они не убили бы и кошки. В кустах поднялся вой. Наши дровосеки отвечали воинственным гиканьем. Ружейный выстрел раздался за моей спиной и оглушил меня. Я оглянулся через плечо; в рубке дым еще не рассеялся, когда я бросился к штурвалу. Оказывается, негр сорвался с места, открыл ставень и выстрелил из мортиры. Тараща глаза, он стоял перед широким отверстием, а я кричал на него, выпрямляя уклонившийся в сторону пароход. Здесь негде было повернуть, даже если бы я и намеревался это сделать; где-то впереди, очень близко от нас, скрывалась в проклятом дыму коряга. Времени нельзя было терять, и я подвел пароход к самому берегу - туда, где, как я знал, было глубоко.
Медленно ползли мы мимо нависших кустов под сыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Внизу обстрел прекратился. Я откинул голову, когда со свистом мелькнула стрела, влетевшая в одно окно рубки и вылетевшая в другое. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем, я различил неясные фигуры людей; они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось перед ставнем, ружье полетело за борт, а человек отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал, а конец какой-то длинной трости стукнул и опрокинул маленький складной стул. Похоже было на то, что негр, вырвав эту трость из рук человека на берегу, потерял равновесие и упал. Тонкий дымок рассеялся, коряга осталась позади, и, глядя вперед, я убедился, что через сотню ярдов можно будет отвести пароход подальше от берега.
Вдруг я почувствовал, что стою на чем-то очень теплом и мокром, и посмотрел вниз. Человек перевернулся на спину и смотрел прямо на меня; обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья; брошенное в окно рубки, копье вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку зияла страшная рана; мои ботинки были полны крови, под штурвалом виднелась блестящая темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Внизу снова началась ружейная стрельба. Он смотрел на меня с тревогой, сжимал копье, словно какую-то драгоценность, и как будто боялся, Что я попытаюсь отнять ее у него.
Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку и торопливо дал два свистка один за другим. Мгновенно смолкли злобные и воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась суматоха, град стрел прекратился, еще несколько выстрелов - и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса, В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный.
- Начальник послал меня...- начал он официальным тоном и вдруг запнулся.- Боже мой!- воскликнул он, заметив раненого.
Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке; но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными.
- Умеете вы править рулем?- нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть ботинки и носки.
- Он умер,- прошептал расстроенный пилигрим.
- Несомненно,- сказал я, дергая как сумасшедший шнурки ботинок.- И полагаю, что и мистера Куртца уже нет в живых.
В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большего разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью поговорить с мистером Куртцем. Поговорить с ним... Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился - к беседе с Куртцем. Я сделал страшное открытие: этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только - разговаривающим. Я не говорил себе: "Теперь я никогда его не увижу" или "теперь я не могу пожать ему руку", но - "теперь я никогда его не услышу". Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом, и из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить - дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы.
Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. "Черт возьми!- подумал я.- Все кончено. Мы опоздали. Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов я так и не услышу, как говорил этот парень..." В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, какая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру или я не оправдал своего назначения в жизни...
***
- Кто это там так глубоко вздыхает? Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж! Пусть - нелепо. Боже мой! Неужели человек не может... Послушайте, дайте-ка мне табаку.
Спустилось глубокое молчание, потом вспыхнула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изборожденное вертикальными складками; веки были опущены, вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла.
- Нелепо!- воскликнул он.- Что толку рассказывать!.. Здесь у каждого из вас имеется по два адреса, вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях; вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим - полисмен; аппетит у вас превосходный и температура нормальная... Понимаете?.. нормальная с начала до конца года. А вы говорите - нелепо!.. К черту нелепость! Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного Куртца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да! Я услыхал больше, чем было нужно. И я был прав, думая о его голосе. Голос - вот самое существенное, что у него осталось. И я услышал его - этот голос - и другие голоса; а воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса... и даже сама девушка...
Марлоу долго молчал.
***
- Призрак я заклял в конце концов ложью,- начал он внезапно.- Девушка! Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они - женщины, хочу я сказать,- стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если б вы слышали, как мистер Куртц - этот вырытый из земли труп - говорил: "Моя нареченная". Тогда вы бы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Куртца! Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот... гм... субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и - смотрите!- голова его уподобилась шару - шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и - о чудо!- он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну еще бы! Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. "Все больше ископаемые",- презрительно заметил начальник. Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым. Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Куртца от его судьбы.
Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Куртц мог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. Слыхали б вы, как он говорил: "Моя слоновая кость!" О, я его слышал! "Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое..." Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробегали по спине. Невозможно - и опасно - было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны - я говорю не иносказательно.
Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая, вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества - полного одиночества, без полисмена,- на путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении? Все эти мелочи и составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете оказаться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту: либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины.
Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас - лишь случайное пристанище, и я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля - место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность - преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко.
Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить - я хочу понять, понять мистера Куртца или тень мистера Куртца. Этот посвященный в таинства призрак из Ниоткуда, перед тем как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Куртц получил главным образом в Англии, и - как он сам соизволил сказать - эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец - наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Куртца. Как я со временем узнал, "Международное общество по просвещению дикарей" поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком семнадцать страниц! Но должно быть, это было им написано до того, как... ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Куртца председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его... вы понимаете? в честь самого мистера Куртца.
Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к статье кажется мне зловещим. Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, "должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги" - и так далее и так далее. "Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной..." Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия - пламенных, благородных слов.
Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы - видимо, спустя большой промежуток времени - была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста, и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: "Истребляйте всех скотов!" Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном постскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить "памфлет" (так называл он свою статью), который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился - и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса - туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Куртца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску; он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов; он приобрел, во всяком случае, одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом.
Да, я не могу его забыть, хотя и не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого; я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, вам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал, он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной - мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня - я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар... я помню по сей день как утверждение далекого родства.
Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня! У него не было выдержки - как не было ее у Куртца... Дерево, раскачиваемое ветром... Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом; плечи его я прижимал к своей груди. Я обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы; я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.
Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок; возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело - я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать. Но с нижней палубы донесся до меня шепот - зловещий шепот. Мои друзья дровосеки также были скандализованы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом.
Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Куртца, увидеть станцию. Куртц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Куртц во всяком случае отомщен.
- Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам? А? Как вы думаете? Скажите?
Он буквально приплясывал - этот кровожадный рыжий человечек! А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал:
- Во всяком случае, дыму вы много напустили. Я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко.- Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружья у бедра и стреляли зажмурившись. Отступление, утверждал я - и не ошибался,- было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Куртце и негодующе запротестовали.
Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения.
- Что это?- спросил я.
Изумленный, он захлопал в ладоши и крикнул:
- Станция!
Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу.
В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой; издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины; судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу.
- На нас было нападение!- завопил начальник.
- Знаю, знаю. Все в порядке!- беззаботно заорал в ответ человек с берега.- Причаливайте. Все в порядке. Я очень рад.
Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: "На кого похож этот парень?" И вдруг вспомнил: он был похож на арлекина. Его костюм - кажется, из небеленого холста - был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами - синими, красными и желтыми; заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях; цветная полоса опоясывала куртку, алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый; безбородое мальчишеское лицо; ни одной резкой черты; маленькие голубые глазки; нос, с которого почти облупилась кожа; улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвеваемой ветром.
- Осторожнее, капитан!- крикнул он.- Здесь затонула прошлой ночью коряга.
Как? Еще одна коряга! Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик.
- Вы англичанин?- крикнул он, расплываясь в улыбке.
- А вы?- откликнулся я, стоя у штурвала.
Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием; потом снова просиял.
- Ну ничего!- ободряюще крикнул он.
- Не опоздали мы?- спросил я.
- Он там, наверху,- ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо - то пасмурное, то залитое солнечным светом.
Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, арлекин явился ко мне на борт.
- Послушайте, мне это не нравится,- сказал я,- туземцы бродят там в кустах.
Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил:
- Они - люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться.
- Но вы говорите, что все обстоит благополучно!- воскликнул я.
- О, у них не было злого умысла,- сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился:
- Да, в сущности, не было.- Потом быстро добавил:
- Ах, Боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить!
Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток.
- Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они - люди простые,- повторил он.
Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было,- он сам со смехом на это намекнул.
- Разве вы не разговариваете с мистером Куртцем?- спросил я.
- С этим человеком не разговаривают - его слушают!- воскликнул он восторженно и строго.- Но теперь...
Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и. не переставая их трясти, забормотал:
- Брат моряк... честь... удовольствие... наслаждение... разрешите представиться... русский... сын архиерея... Тамбовской губернии... Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски. Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?
Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул.
- Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свои кругозор...
- Здесь!- перебил я.
- Как можно знать заранее? Здесь я встретил мистера Куртца,- сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью.
Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом и потом отправился в глубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех.
- Я не так молод, как кажется. Мне двадцать пять лет,- сказал он.- Сначала старик Ван-Шьютен хотел послать меня к черту,- рассказывал он, от души забавляясь,- но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик голландец этот Ван-Шьютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?
Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался.
- Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее,- сказал он, смотря на нее словно в экстазе.- Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве! Иногда каноэ переворачиваются, а иногда приходится поскорей удирать, если туземцы рассердятся.
Он перелистывал книгу.
- Вы делали заметки на русском языке?- спросил я. Он кивнул головой.
- Я думал, что это какой-то шифр,- сказал я. Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил:
- Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами.
- Они хотели вас убить?- спросил я.
- О нет!- воскликнул он и умолк.
- Почему они на нас напали?- продолжал я.
Он замялся, потом сконфуженно сказал:
- Они не хотят, чтобы он уехал.
- Не хотят?- с любопытством переспросил я.
Он кивнул таинственно и многозначительно.
- Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор!- воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.
III
Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб.
- Я отправился в путь,- сказал он,- забирался понемногу все дальше и дальше и наконец зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну ничего! Времени много. Выживу. А вы увезите Куртца. И поскорей, поскорей, говорю вам.
Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищем, покинутом, одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себялюбивую мысль, и, когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Куртцу. О ней он не размышлял - он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.
Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и наконец соприкоснувшихся бортами. Думаю, Куртц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или - вернее - говорил один Куртц.
- Мы говорили обо всем,- с восторгом сообщил мне молодой человек.- Я позабыл о сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем! Обо всем!.. И о любви.
- А, он говорил с вами о любви!- сказал я, от души забавляясь.
- Не о той любви, о какой вы думаете!- страстно воскликнул он.- О любви вообще. Он показал мне мир - мир!
Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам, и - уверяю вас - никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости.
- И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним?- спросил я.
Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Куртца, когда тот два раза был болен (казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом), но обычно Куртц скитался один, забираясь в самые дебри лесов.
- Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения,- сказал он.- Ах, этого стоило ждать... иногда.
- Что же он делал? Исследовал страну?- спросил я.
- О да, конечно.
...

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
...
Выяснилось, что Куртц нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро: рискованно было задавать Куртцу слишком много вопросов; но обычно целью его экспедиций была добыча слоновой кости.
- Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена,- возразил я.
- На станции и сейчас еще есть много патронов,- ответил он, глядя в сторону.
- Иными словами, он совершал набеги,- сказал я.
Тот кивнул.
- Но не один же!
Он пробормотал что-то о деревнях близ озера.
- Куртц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли?- подсказал я.
Он замялся, потом ответил:
- Они его боготворили.
Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Куртце и в то же время что-то его удерживало. Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции.
Наконец он не выдержал:
- Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собою гром и молнию... Ничего похожего на это они раньше не видели. И он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Куртце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет! Чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить... но я его не осуждаю.
- Вас пристрелить!- воскликнул я.- За что?
- Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Куртц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все ли мне было равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились - на время. Тогда он заболел вторично. А потом я старался не попадаться ему на пути; но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно, я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался; снова охотился за слоновой костью; пропадал по целым неделям; забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете - забывал о себе.
- Да ведь он сумасшедший!- воскликнул я.
Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Куртц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном...
Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные - такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь; он словно скрывал свою тайну - терпеливый, выжидающий, неприступно-молчаливый.
Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Куртц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев - должно быть, собирал дань почитания - и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селения на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными... как бы это сказать?.. менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже.
- Я услышал, что он лежит беспомощный... Вот я и пришел, воспользовался случаем,- сказал русский.- О, ему плохо, очень плохо.
Я направил бинокль на дом. Там не заметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также - для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раз двинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению.
Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник - метод мистера Куртца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота... Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что, казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль.
Поклонник мистера Куртца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся; они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Куртц не отдаст распоряжения: его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались...
- Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Куртцу!- крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами мистера Куртца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Куртц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Куртца... о чем? о любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о пресмыкании перед мистером Куртцем, то он пресмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях; эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники! Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слыхал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях.
- Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Куртц!- воскликнул последний ученик Куртца.
- А о себе что вы скажете?- осведомился я.
- Я! Я! Я - человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с?..
Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал:
- Не понимаю... Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека! С такими идеями! Позор! Позор! Я не спал последние десять дней...
Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском, но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха.
Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей - обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды,- хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава - потом все застыло настороженно.
- Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли,- пробормотал русский.
Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков.
- Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз,- сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестьем полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Куртц... Куртц... кажется, по-немецки это значит - короткий? Ну что ж! В фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и... смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот... в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух.
Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие - два карабина, винтовка, револьвер - громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма; разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пресыщеннои и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены.
Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал:
- Я рад.
Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос; а ведь говорил он без всяких усилий - едва шевеля губами. Голос! Голос! Торжественный, глубокий, вибрирующий - тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил - искусственно возбужденных, несомненно - едва не покончить со всеми нами.
В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом.
Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья,- воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины.
Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; проволочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты - подарки шаманов - сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу.
Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось обуреваемая безумным желанием коснуться неба... и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание.
Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли.
- Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить,- нервничая, сказал человек с заплатами.- В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Куртцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Куртц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю... Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено.
В эту минуту я услышал глубокий голос Куртца за занавеской:
- Спасти меня! Спасти слоновую кость, хотите вы сказать. Не убеждайте меня. Спасти меня! Да ведь мне пришлось спасать вас. А теперь вы мне мешаете. Болен! Болен! Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего! Я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей - вы мне мешаете. Я вернусь. Я...
На палубу вышел начальник. Он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону.
- Плох, очень плох,- сказал он и счел нужным вздохнуть, однако не старался сохранить скорбный вид.- Мы для него сделали все, что могли, не так ли? Но что толку скрывать? Фирме мистер Куртц принес больше вреда, чем пользы. Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность, осмотрительность - вот мой принцип! Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально! Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости - главным образом, ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало... Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален.
- Вы это называете "нерациональным методом"?- спросил я, глядя на берег.
- Конечно!- воскликнул он с жаром.- А вы?..
- Никакого метода не было,- пробормотал я, помолчав.
- Совершенно верно,- обрадовался он.- Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг - сообщить об этом куда следует.
- О,- сказал я,- этот парень... как его зовут?.. кирпичник составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали.
Начальник был, видимо, сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Куртцу, ища успокоения... да, успокоения.
- И тем не менее я считаю, что мистер Куртц - замечательный человек,- сказал я внушительно.
Он вздрогнул, посмотрел на меня холодным тяжелым взглядом и сказал очень спокойно:
- Был замечательным человеком,- и повернулся ко мне спиной.
Час немилости пробил: я был отнесен в одну рубрику с Куртцем как сторонник методов, для которых время еще не пришло; я не знал о рациональных методах! Но все-таки я мог хотя бы делать выбор из кошмаров.
Собственно говоря, в поисках успокоения я обратился к дикой глуши, а не к мистеру Куртцу, который - против этого я не мог протестовать - был все равно что похоронен. И мне почудилось, будто я тоже погребен в могиле, полной необъяснимых тайн. Я чувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся мне на грудь, вдыхал запах сырой земли, ощущал власть гниения и тьму непроницаемой ночи... Русский тронул меня за плечо. Я слышал, как он бормотал:
- Брат моряк... не мог утаить... сведения, которые повредят репутации мистера Куртца...
Я ждал. Видимо, для него мистер Куртц еще не лежал в могиле. Я подозревал, что он считает мистера Куртца одним из бессмертных.
- Ну что ж!- сказал я наконец.- Говорите начистоту. Выходит, что я - друг мистера Куртца... до известной степени.
Весьма официально он мне сообщил, что, не занимайся я одной с ним "профессией", он сохранил бы все в тайне, не заботясь о последствиях. Он подозревал, что к нему недоброжелательно относятся эти белые, которые...
- Вы правы,- перебил я, припоминая подслушанный мною разговор.- Начальник считает, что вас следовало бы повесить.
Он встревожился, и это меня сначала позабавило.
- Лучше мне потихоньку убраться с дороги,- сказал он задумчиво.- Для Куртца я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог. Что может их остановить? Военный пост находится на расстоянии трехсот миль отсюда.
- Да,- отозвался я,- пожалуй, лучше вам уйти, если есть у вас друзья среди этих дикарей.
- Друзей много. Они - люди простые, а мне, вы знаете, ничего не нужно...
Он стоял, покусывая губы, потом добавил:
- Я не хочу, чтобы какая-нибудь беда случилась с этими белыми. Конечно, я думал о репутации мистера Куртца, но вы - брат моряк, и...
- Ладно,- сказал я, помолчав.- Я позабочусь о репутации мистера Куртца.
Тогда я не знал, сколько правды было в моих словах.
Понизив голос, русский сообщил мне, что это Куртц отдал распоряжение напасть на пароход.
- Иногда ему невыносимо было думать, что его увезут... а потом снова... Но я таких вещей не понимаю. Я человек простой. Он думал, что это вас испугает - вы решите, что он умер, и повернете назад. Я не мог его уговорить. О, я натерпелся за этот последний месяц!
- Ладно,- сказал я,- теперь все в порядке.
- Д-а-а,- протянул он, видимо не совсем успокоенный.
- Благодарю вас,- сказал я.- Я буду держаться настороже.
- Но вы будете молчать?- с тревогой спросил он.- Подумайте, как пострадает его репутация, если кто-нибудь...
Торжественно я обещал ему хранить тайну.
- Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов для мортиры?
Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку.
- Братья моряки... славный английский табак.
В дверях рубки он приостановился.
- Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите!- Он поднял ногу. Подошвы были привязаны веревками к босой ноге, как сандалии. Я разыскал старые ботинки. Он посмотрел на них с восторгом и сунул под левую руку. Один из карманов его куртки (ярко-красный) был набит патронами, из другого (темно-синего) торчала книжка Тоусона. Казалось, он считал себя превосходно экипированным для новой встречи с дикой глушью.
- Ах! Другого такого человека я никогда не встречу! Если бы вы слышали, как он декламировал стихи! Стихи собственного своего сочинения!- Он закатил глаза, упиваясь своими воспоминаниями.- О, он расширил мой кругозор.
- Прощайте,- сказал я.
Он пожал мне руку и скрылся во мраке. Иногда я задаю себе вопрос, действительно ли я его видел, можно ли встретить на земле такой феномен!..
Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение, его намеки на грозившую нам опасность, и теперь, в звездной ночи, эта опасность показалась мне настолько реальной. что я решил встать и посмотреть, все ли спокойно. На холме пылал большой костер, отбрасывая трепещущие отблески на осевший угол станционного здания. Один из агентов с вооруженным отрядом наших чернокожих охранял слоновую кость; но в глубине леса, между черными, похожими на колонны стволами деревьев мелькали, то опускаясь, то поднимаясь над землей, красные огоньки, точно определявшие местоположение лагеря, где бодрствовали встревоженные приверженцы мистера Куртца. Слышался монотонный бой барабана, и воздух наполнен был замирающими вибрациями и заглушенным стуком. Протяжный гул, в который сливались голоса многих людей, поющих какое-то жуткое заклятие, вырывался из-за черной стены лесов, как вырывается жужжание пчел из улья; это пение странно, словно наркоз, подействовало на мой мозг, еще окутанный дремотой. Кажется, я снова задремал, прислонившись к поручням, пока не разбудили меня резкие, оглушительные крики - взрыв непонятного безумия, который привел меня в недоумение. Крики сразу оборвались, и опять послышалось тихое гудение, действовавшее успокоительно, как молчание. Я заглянул в каюту. Там горел свет, но мистера Куртца в каюте не было.
Думаю, я поднял бы крик, если б сразу поверил своим глазам. Но сначала я не поверил - это показалось мне невероятным. Дело в том, что меня охватил безграничный страх, какой-то абстрактный ужас, не связанный с мыслями о физической опасности. Эта эмоция вызвана была душевным потрясением, словно я неожиданно наткнулся на что-то чудовищное, необъяснимое и отвратительное. Такое состояние длилось не больше секунды, а затем сменилось мыслью о грозившей нам смертельной опасности, о возможности нападения и резни. Эта мысль действовала умиротворяюще, и я ее приветствовал. Она настолько меня успокоила, что я решил не поднимать тревоги.
В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху ульстер. Крики его не разбудили, он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Куртца... Казалось, было предопределено, что я никогда его не предам и останусь верным избранному мною кошмару. Я горел желанием встретиться наедине с этой тенью. И по сей день я не знаю, почему мне так не хотелось разделить с кем-нибудь предстоявшее мне мрачное испытание.
Едва ступив на берег, я увидел след - широкий след в траве. Помню, с каким торжеством я сказал себе: "Он не может идти... ползет на четвереньках... я его поймал". Трава была мокрая от росы. Сжимая кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и прибить. Не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Вспомнилась старуха с кошкой и с вязаньем,- персонаж совсем неподходящий для участия во всем этом деле. Мелькнули пилигримы, они опрыскивали воздух свинцом из винчестеров, держа ружье у бедра. Я думал, что никогда не смогу вернуться на пароход, буду жить в этих лесах, одинокий и безоружный, до самой старости. Вы знаете, какие глупые мысли приходят иногда в голову. Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца и остался доволен своим ровным пульсом.
Но все время я шел по следу; потом остановился и прислушался. Ночь была ясная; в темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса и неподвижно застыли черные тени. Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг (кажется, я бежал, посмеиваясь про себя), чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить Куртца.
Я налетел на него, и, не услышь он моих шагов, я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, нетвердо держась на ногах,- длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь, а за моей спиной мерцали огни между деревьями, и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но, когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее неприкрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если б он начал кричать?
Хотя он едва мог стоять, но для крика у него хватило бы силы.
- Уходите, спрячьтесь!- сказал он своим низким голосом.
Это было страшно. Я оглянулся. Тридцать ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула длинные черные ноги, простерла черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога - кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на черта.
- Знаете ли вы, что вы делаете?- прошептал я.
- Знаю,- ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко - словно окрик, вырвавшийся из рупора.
"Если он поднимет шум, мы погибли",- подумал я. Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень - это скитающееся и измученное существо.
- Вы погибнете,- сказал я,- окончательно погибнете.
Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать, хотя он мог считать себя погибшим и теперь - в тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже... после.
- У меня были грандиозные планы,- пробормотал он нерешительно.
- Да,- сказал я,- но, если вы вздумаете кричать, я вам размозжу голову...- Поблизости не видно было ни палки, ни камня...- Я вас задушу,- поправился я.
- Я стоял у порога великих дел,- взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах.- А теперь из-за негодяя и дурака...
- Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен,- твердо сказал я. Мне, видите ли, не хотелось его душить, да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары - тяжелые немые чары глуши, которая, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые и зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов, к тягучему пению заклятий; только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове - хотя я живо чувствовал и эту опасность,- но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм, я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего выше или ниже его - и я это знал. Он оторвался от земли. Будь он проклят! Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле или парю в воздухе.
....
Выяснилось, что Куртц нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро: рискованно было задавать Куртцу слишком много вопросов; но обычно целью его экспедиций была добыча слоновой кости.
- Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена,- возразил я.
- На станции и сейчас еще есть много патронов,- ответил он, глядя в сторону.
- Иными словами, он совершал набеги,- сказал я.
Тот кивнул.
- Но не один же!
Он пробормотал что-то о деревнях близ озера.
- Куртц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли?- подсказал я.
Он замялся, потом ответил:
- Они его боготворили.
Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Куртце и в то же время что-то его удерживало. Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции.
Наконец он не выдержал:
- Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собою гром и молнию... Ничего похожего на это они раньше не видели. И он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Куртце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет! Чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить... но я его не осуждаю.
- Вас пристрелить!- воскликнул я.- За что?
- Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Куртц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все ли мне было равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились - на время. Тогда он заболел вторично. А потом я старался не попадаться ему на пути; но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно, я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался; снова охотился за слоновой костью; пропадал по целым неделям; забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете - забывал о себе.
- Да ведь он сумасшедший!- воскликнул я.
Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Куртц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном...
Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные - такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь; он словно скрывал свою тайну - терпеливый, выжидающий, неприступно-молчаливый.
Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Куртц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев - должно быть, собирал дань почитания - и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селения на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными... как бы это сказать?.. менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже.
- Я услышал, что он лежит беспомощный... Вот я и пришел, воспользовался случаем,- сказал русский.- О, ему плохо, очень плохо.
Я направил бинокль на дом. Там не заметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также - для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раз двинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению.
Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник - метод мистера Куртца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота... Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что, казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль.
Поклонник мистера Куртца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся; они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Куртц не отдаст распоряжения: его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались...
- Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Куртцу!- крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами мистера Куртца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Куртц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Куртца... о чем? о любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о пресмыкании перед мистером Куртцем, то он пресмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях; эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники! Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слыхал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях.
- Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Куртц!- воскликнул последний ученик Куртца.
- А о себе что вы скажете?- осведомился я.
- Я! Я! Я - человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с?..
Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал:
- Не понимаю... Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека! С такими идеями! Позор! Позор! Я не спал последние десять дней...
Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском, но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха.
Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей - обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды,- хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава - потом все застыло настороженно.
- Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли,- пробормотал русский.
Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков.
- Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз,- сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестьем полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Куртц... Куртц... кажется, по-немецки это значит - короткий? Ну что ж! В фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и... смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот... в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух.
Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие - два карабина, винтовка, револьвер - громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма; разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пресыщеннои и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены.
Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал:
- Я рад.
Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос; а ведь говорил он без всяких усилий - едва шевеля губами. Голос! Голос! Торжественный, глубокий, вибрирующий - тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил - искусственно возбужденных, несомненно - едва не покончить со всеми нами.
В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом.
Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья,- воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины.
Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; проволочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты - подарки шаманов - сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу.
Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось обуреваемая безумным желанием коснуться неба... и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание.
Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли.
- Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить,- нервничая, сказал человек с заплатами.- В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Куртцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Куртц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю... Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено.
В эту минуту я услышал глубокий голос Куртца за занавеской:
- Спасти меня! Спасти слоновую кость, хотите вы сказать. Не убеждайте меня. Спасти меня! Да ведь мне пришлось спасать вас. А теперь вы мне мешаете. Болен! Болен! Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего! Я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей - вы мне мешаете. Я вернусь. Я...
На палубу вышел начальник. Он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону.
- Плох, очень плох,- сказал он и счел нужным вздохнуть, однако не старался сохранить скорбный вид.- Мы для него сделали все, что могли, не так ли? Но что толку скрывать? Фирме мистер Куртц принес больше вреда, чем пользы. Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность, осмотрительность - вот мой принцип! Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально! Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости - главным образом, ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало... Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален.
- Вы это называете "нерациональным методом"?- спросил я, глядя на берег.
- Конечно!- воскликнул он с жаром.- А вы?..
- Никакого метода не было,- пробормотал я, помолчав.
- Совершенно верно,- обрадовался он.- Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг - сообщить об этом куда следует.
- О,- сказал я,- этот парень... как его зовут?.. кирпичник составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали.
Начальник был, видимо, сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Куртцу, ища успокоения... да, успокоения.
- И тем не менее я считаю, что мистер Куртц - замечательный человек,- сказал я внушительно.
Он вздрогнул, посмотрел на меня холодным тяжелым взглядом и сказал очень спокойно:
- Был замечательным человеком,- и повернулся ко мне спиной.
Час немилости пробил: я был отнесен в одну рубрику с Куртцем как сторонник методов, для которых время еще не пришло; я не знал о рациональных методах! Но все-таки я мог хотя бы делать выбор из кошмаров.
Собственно говоря, в поисках успокоения я обратился к дикой глуши, а не к мистеру Куртцу, который - против этого я не мог протестовать - был все равно что похоронен. И мне почудилось, будто я тоже погребен в могиле, полной необъяснимых тайн. Я чувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся мне на грудь, вдыхал запах сырой земли, ощущал власть гниения и тьму непроницаемой ночи... Русский тронул меня за плечо. Я слышал, как он бормотал:
- Брат моряк... не мог утаить... сведения, которые повредят репутации мистера Куртца...
Я ждал. Видимо, для него мистер Куртц еще не лежал в могиле. Я подозревал, что он считает мистера Куртца одним из бессмертных.
- Ну что ж!- сказал я наконец.- Говорите начистоту. Выходит, что я - друг мистера Куртца... до известной степени.
Весьма официально он мне сообщил, что, не занимайся я одной с ним "профессией", он сохранил бы все в тайне, не заботясь о последствиях. Он подозревал, что к нему недоброжелательно относятся эти белые, которые...
- Вы правы,- перебил я, припоминая подслушанный мною разговор.- Начальник считает, что вас следовало бы повесить.
Он встревожился, и это меня сначала позабавило.
- Лучше мне потихоньку убраться с дороги,- сказал он задумчиво.- Для Куртца я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог. Что может их остановить? Военный пост находится на расстоянии трехсот миль отсюда.
- Да,- отозвался я,- пожалуй, лучше вам уйти, если есть у вас друзья среди этих дикарей.
- Друзей много. Они - люди простые, а мне, вы знаете, ничего не нужно...
Он стоял, покусывая губы, потом добавил:
- Я не хочу, чтобы какая-нибудь беда случилась с этими белыми. Конечно, я думал о репутации мистера Куртца, но вы - брат моряк, и...
- Ладно,- сказал я, помолчав.- Я позабочусь о репутации мистера Куртца.
Тогда я не знал, сколько правды было в моих словах.
Понизив голос, русский сообщил мне, что это Куртц отдал распоряжение напасть на пароход.
- Иногда ему невыносимо было думать, что его увезут... а потом снова... Но я таких вещей не понимаю. Я человек простой. Он думал, что это вас испугает - вы решите, что он умер, и повернете назад. Я не мог его уговорить. О, я натерпелся за этот последний месяц!
- Ладно,- сказал я,- теперь все в порядке.
- Д-а-а,- протянул он, видимо не совсем успокоенный.
- Благодарю вас,- сказал я.- Я буду держаться настороже.
- Но вы будете молчать?- с тревогой спросил он.- Подумайте, как пострадает его репутация, если кто-нибудь...
Торжественно я обещал ему хранить тайну.
- Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов для мортиры?
Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку.
- Братья моряки... славный английский табак.
В дверях рубки он приостановился.
- Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите!- Он поднял ногу. Подошвы были привязаны веревками к босой ноге, как сандалии. Я разыскал старые ботинки. Он посмотрел на них с восторгом и сунул под левую руку. Один из карманов его куртки (ярко-красный) был набит патронами, из другого (темно-синего) торчала книжка Тоусона. Казалось, он считал себя превосходно экипированным для новой встречи с дикой глушью.
- Ах! Другого такого человека я никогда не встречу! Если бы вы слышали, как он декламировал стихи! Стихи собственного своего сочинения!- Он закатил глаза, упиваясь своими воспоминаниями.- О, он расширил мой кругозор.
- Прощайте,- сказал я.
Он пожал мне руку и скрылся во мраке. Иногда я задаю себе вопрос, действительно ли я его видел, можно ли встретить на земле такой феномен!..
Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение, его намеки на грозившую нам опасность, и теперь, в звездной ночи, эта опасность показалась мне настолько реальной. что я решил встать и посмотреть, все ли спокойно. На холме пылал большой костер, отбрасывая трепещущие отблески на осевший угол станционного здания. Один из агентов с вооруженным отрядом наших чернокожих охранял слоновую кость; но в глубине леса, между черными, похожими на колонны стволами деревьев мелькали, то опускаясь, то поднимаясь над землей, красные огоньки, точно определявшие местоположение лагеря, где бодрствовали встревоженные приверженцы мистера Куртца. Слышался монотонный бой барабана, и воздух наполнен был замирающими вибрациями и заглушенным стуком. Протяжный гул, в который сливались голоса многих людей, поющих какое-то жуткое заклятие, вырывался из-за черной стены лесов, как вырывается жужжание пчел из улья; это пение странно, словно наркоз, подействовало на мой мозг, еще окутанный дремотой. Кажется, я снова задремал, прислонившись к поручням, пока не разбудили меня резкие, оглушительные крики - взрыв непонятного безумия, который привел меня в недоумение. Крики сразу оборвались, и опять послышалось тихое гудение, действовавшее успокоительно, как молчание. Я заглянул в каюту. Там горел свет, но мистера Куртца в каюте не было.
Думаю, я поднял бы крик, если б сразу поверил своим глазам. Но сначала я не поверил - это показалось мне невероятным. Дело в том, что меня охватил безграничный страх, какой-то абстрактный ужас, не связанный с мыслями о физической опасности. Эта эмоция вызвана была душевным потрясением, словно я неожиданно наткнулся на что-то чудовищное, необъяснимое и отвратительное. Такое состояние длилось не больше секунды, а затем сменилось мыслью о грозившей нам смертельной опасности, о возможности нападения и резни. Эта мысль действовала умиротворяюще, и я ее приветствовал. Она настолько меня успокоила, что я решил не поднимать тревоги.
В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху ульстер. Крики его не разбудили, он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Куртца... Казалось, было предопределено, что я никогда его не предам и останусь верным избранному мною кошмару. Я горел желанием встретиться наедине с этой тенью. И по сей день я не знаю, почему мне так не хотелось разделить с кем-нибудь предстоявшее мне мрачное испытание.
Едва ступив на берег, я увидел след - широкий след в траве. Помню, с каким торжеством я сказал себе: "Он не может идти... ползет на четвереньках... я его поймал". Трава была мокрая от росы. Сжимая кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и прибить. Не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Вспомнилась старуха с кошкой и с вязаньем,- персонаж совсем неподходящий для участия во всем этом деле. Мелькнули пилигримы, они опрыскивали воздух свинцом из винчестеров, держа ружье у бедра. Я думал, что никогда не смогу вернуться на пароход, буду жить в этих лесах, одинокий и безоружный, до самой старости. Вы знаете, какие глупые мысли приходят иногда в голову. Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца и остался доволен своим ровным пульсом.
Но все время я шел по следу; потом остановился и прислушался. Ночь была ясная; в темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса и неподвижно застыли черные тени. Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг (кажется, я бежал, посмеиваясь про себя), чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить Куртца.
Я налетел на него, и, не услышь он моих шагов, я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, нетвердо держась на ногах,- длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь, а за моей спиной мерцали огни между деревьями, и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но, когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее неприкрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если б он начал кричать?
Хотя он едва мог стоять, но для крика у него хватило бы силы.
- Уходите, спрячьтесь!- сказал он своим низким голосом.
Это было страшно. Я оглянулся. Тридцать ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула длинные черные ноги, простерла черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога - кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на черта.
- Знаете ли вы, что вы делаете?- прошептал я.
- Знаю,- ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко - словно окрик, вырвавшийся из рупора.
"Если он поднимет шум, мы погибли",- подумал я. Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень - это скитающееся и измученное существо.
- Вы погибнете,- сказал я,- окончательно погибнете.
Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать, хотя он мог считать себя погибшим и теперь - в тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже... после.
- У меня были грандиозные планы,- пробормотал он нерешительно.
- Да,- сказал я,- но, если вы вздумаете кричать, я вам размозжу голову...- Поблизости не видно было ни палки, ни камня...- Я вас задушу,- поправился я.
- Я стоял у порога великих дел,- взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах.- А теперь из-за негодяя и дурака...
- Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен,- твердо сказал я. Мне, видите ли, не хотелось его душить, да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары - тяжелые немые чары глуши, которая, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые и зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов, к тягучему пению заклятий; только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове - хотя я живо чувствовал и эту опасность,- но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм, я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего выше или ниже его - и я это знал. Он оторвался от земли. Будь он проклят! Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле или парю в воздухе.
....

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
...
Я вам рассказал, о чем мы с ним говорили, повторил фразы, какими мы обменялись... но что толку? То были банальные, повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но не в этом дело. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне, отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа! Если приходилось кому-нибудь вести борьбу душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредоточивались на нем самом. Да, ум его был ясен, и это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить, но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум. А душа его была одержима безумием. Заброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и - клянусь небом!- обезумела. Мне пришлось - должно быть, в наказание за мои грехи - подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой. Я это видел, слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха и, однако, борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа; но, когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер пот со лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка.
Когда на следующий день, в полдень, мы снялись с якоря, толпа людей - все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев - снова вышла из леса и рассыпалась по просеке; склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел пароход вверх по течению, затем повернул его; две тысячи глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки три человека, с головы до ног облепленные красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись лицом к реке, топая, кивая рогатыми головами; раскачивались их красные тела; они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву; они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи, а толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятья, как бы участвуя в сатанинской литании.
Мы перенесли Куртца в рулевую рубку: там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу.
- Вы это понимаете?- спросил я. Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами; взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка появилась на бесцветных губах; потом губы его судорожно искривились.
- Понимаю ли я?- проговорил он медленно, задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова.
Я дернул веревку свистка; сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу.
- Не надо! Не надо! Вы их спугнете!- досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной и сверкающей реке свои обнаженные руки.
Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться, и я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма.
Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю; теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше; а жизнь Куртца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно; теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он окидывал взглядом понимающим и удовлетворенным: "дело" обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником "нерационального метода". Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это нежданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки.
Куртц разглагольствовал. Ах, этот голос! Этот голос! До последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Куртца скрывать в великолепных складках красноречия темное и бесплодное его сердце. Куртц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями - призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. Моя нареченная, моя станция, моя карьера, мои идеи - вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного Куртца появлялась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам, какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти.
Иногда он бывал возмутительно ребячлив. Он желал, чтобы короли встречали его на станциях,- его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела.
- Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание,- говорил он.- Конечно, не следует забывать о мотивах... мотивы должны быть честные.
За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку; пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. Я смотрел вперед и вел судно.
- Закройте ставень,- неожиданно сказал однажды Куртц.- Я не могу этого видеть.
Я исполнил его просьбу. Последовало молчание.
- О, но я еще вырву у тебя сердце!- крикнул он невидимой глуши.
Произошла поломка,- я этого ждал,- и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка гибельно повлияла на уверенность Куртца. Как-то утром он мне вручил связку бумаг и фотографическую карточку; пакет был перевязан шнурком от ботинка.
- Спрячьте,- сказал он.- Этот зловредный дурак (он имел в виду начальника) способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю.
После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и я хотел уйти, но он забормотал:
- Жить честно, умереть, умереть...
Я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи? Он когда-то работал в газетах и думал снова заняться этим делом, "чтобы распространять мои идеи. Это - долг".
Его окутывал непроницаемый мрак. Я на него смотрел, как смотрят на человека, лежащего на дне пропасти, куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый шатун, производить ремонт. Я жил окруженный гайками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками - предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью оказавшейся на борту, я устало рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставлял меня лечь.
Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос:
- Я лежу здесь, в темноте, и жду смерти.
Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал:
- О, вздор!- и тревожно склонился над ним.
Я не представлял себе, чтобы могло так сильно измениться лицо человека, и - надеюсь - никогда больше этого не увижу. О, жалости я не чувствовал! Я был зачарован, словно передо мной разорвали пелену. Лицо, цвета слоновой кости, дышало мрачной гордостью; безграничная властность, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние - этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражение? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению... он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох:
- Ужас! Ужас!
Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно, но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роем вокруг лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением:
- Мистер Куртц... умер.
Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной. Однако ел я немного. Здесь горела лампа, было, знаете ли, светло... а там, снаружи, нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме.
А потом они едва не похоронили меня.
Однако я, как видите, не последовал в ту пору за Куртцем. Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Куртцу. Судьба. Моя судьба! Забавная штука жизнь, таинственная, с безжалостной логикой преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек,- это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления.
Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы; нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением; вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. Если такова высшая мудрость, то жизнь - загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Куртц был замечательным человеком. Ему было что сказать. Он это сказал. С тех пор как я сам поглядел за грань, мне понятен стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор: "Ужас!" Он был замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была, какая-то вера, прямота, убежденность; в шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания,- это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними,- не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением к эфемерности всего, даже самой боли. Нет! Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг, он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница; быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может! Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Уж лучше его крик - гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужасами и гнусным удовлетворением. Но это победа! Вот почему я остался верным Куртцу до конца - и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал - не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой такой же прозрачной и чистой, как кристалл.
Нет, меня они не похоронили, но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб повапленный, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка - осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом,- оскорбляла меня, как наглое чванство глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупо-самоуверенных лиц.
Пожалуй, в то время я был не совсем здоров. Я бродил по улицам - мне нужно было уладить кое-какие дела - и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что я вел себя непозволительно, но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки "восстановить мои силы" не достигали своей цели. Не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. Я хранил пачку бумаг, врученных мне Куртцем, и не знал, что с ними делать. Его мать недавно умерла; мне сказали, что ухаживала за ней его "нареченная". Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотой оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкрадчивой настойчивостью он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть "документами". Я не удивился, ибо успел дважды поссориться из-за этого с начальником. Я отказался дать ему хотя бы один листок; так же я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все, касающееся ее "территории". По его словам, "мистер Куртц должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях, ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому...".
Я уверил его, что мистер Куртц - какими бы сведениями он ни обладал - проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном: "Потеря будет велика, если..." и т.д. и т.д. Я ему предложил статью "Искоренение обычаев дикарей", оторвав предварительно постскриптум. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул.
- Это не то, на что мы имели право надеяться,- заметил он.
- Не надейтесь,- сказал я.- У меня остаются только его частные письма.
Он удалился, пригрозив судебным преследованием, и больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. "Он мог бы иметь колоссальный успех",- сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца - если была у него таковая - и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был, Куртц был универсальным гением... Я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и, взволнованный, удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма.
Наконец, посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего "дорогого коллеги". Этот посетитель сообщил, что Куртцу следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие, как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Куртц, по его мнению, писать не умел, но "как этот человек говорил! Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера - понимаете?- вера. Он мог себя убедить в чем угодно... в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии".
- Какой партии?- спросил я.
- Любой!- ответил тот.- Он... он был... экстремист. Не так ли?
Я согласился. Он полюбопытствовал, не известно ли мне, что побудило его поехать туда.
- Известно,- сказал я и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной.
Он торопливо ее просмотрел, бормоча себе что-то под нос, затем произнес:
- Пригодится,- и ушел со своей добычей.
Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива... Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение и никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да; и, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало Куртцу, от меня ускользало: его душа, его тело, его станция, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его "нареченная"; я хотел и это отдать прошлому, хотел уступить все, что у меня от него осталось, забвению - последнему слову общей нашей судьбы. Я не защищаюсь: тогда я неясно себе представлял, чего именно я хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности... или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии. Не знаю. Не могу сказать. Но я отправился к ней.
Я думал, что воспоминание о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека,- отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой и массивной дверью, между высокими домами, на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение: я увидел его на носилках; он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил, жил так, как и раньше,- ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности; призрак более темный, чем тени ночи, и благородно задрапированный в складки великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной: носилки, призраки носильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца - сердца тьмы-победительницы. То был момент триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры,- это воспоминание снова всплыло, я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. Я вспомнил гнусные его мольбы и гнусные угрозы, гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку, бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал сдержанно и вяло:
- Вся эта слоновая кость, в сущности, принадлежит мне. Фирма за нее не платила. Я сам ее собрал, рискуя жизнью. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее... Гм... Положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться, а? Я хочу только справедливости...- Он хотел только справедливости.
Во втором этаже я позвонил у двери из красного дерева, а пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки, смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим, проклинающим вселенную. Я снова слышал шепот: "Ужас! Ужас!"
Спускались сумерки. Мне пришлось подождать в высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль; отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась. Я встал.
В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном, с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор, как он умер, больше года с тех пор, как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала:
- Я слышала, что вы приехали.
Я заметил, что она не очень молода,- во всяком случае, уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице. Эти белокурые волосы, это бледное лицо и чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня. Взгляд был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать: я, я одна умею грустить по нем так, как он того заслуживает. Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял: она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера. И - клянусь небом!- это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера... Нет, сейчас, сию минуту. Я увидел его и ее вместе - его смерть и ее скорбь... Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом:
- Я выжила...- А мой напряженный слух уловил последний его шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть. Я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку.
- Вы его знали хорошо,- прошептала она, помолчав.
- В тех краях близость возникает быстро,- сказал я.- Я его знал так, как только может один человек знать другого.
- И вы им восхищались,- проговорила она.- Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли?
- Он был замечательным человеком,- сказал я нетвердым голосом. Видя ее напряженный, умоляющий взгляд, как будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова, я продолжал:
- Нельзя было не...
- ...любить его,- закончила она с жаром, а я в ужасе онемел.- О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знала я! Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было!
- Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было,- повторил я. Быть может, она была права. Но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее, и только лоб ее, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви.
- Вы были его другом,- продолжала она.- Его другом!- повторила она громче.- Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне. Я чувствую, что могу говорить с вами... и... о! я должна говорить. Я хочу, чтобы вы - человек, слышавший последние его слова,- знали, что я была достойна его... Это не гордость... Да! Я горжусь сознанием, что поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле. Он сам мне это сказал. А с тех пор, как умерла его мать, у меня не было никого... никого... кто бы...
Я слушал. Тьма сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал. Подозреваю, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии; она говорила так, как пьют жаждущие. Я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Куртцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И право же, я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края.
- ...Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом?- говорила она.- Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего.- Она пристально смотрела на меня.- Это дар великого человека...
Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те, иные звуки, исполненные тайны, отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать; журчание реки, шелест деревьев, раскачиваемых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы.
- Но вы его слышали! Вы знаете!- воскликнула она.
- Да, знаю,- сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой и спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого.
- Какая утрата для меня... для нас!- великодушно поправилась она и шепотом добавила:
- Для мира.
В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза, полные слез,- слез, которым не суждено было пролиться.
- Я была очень счастлива и очень горда,- продолжала она.- Слишком счастлива. Это продолжалось недолго. А теперь я несчастна... на всю жизнь.
Она встала; ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. Я тоже встал.
- И от всего этого,- продолжала она с тоской,- от всех его обещаний, его величия, его доброй души и благородного сердца не осталось ничего... ничего, кроме воспоминания. Вы и я...
- Мы всегда будем его помнить,- поторопился я сказать.
- Нет!- воскликнула она.- Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут.
- Его слова останутся,- сказал я.
- И его пример,- прошептала она словно про себя.- Люди смотрели на него снизу вверх... доброта его светилась в каждом поступке. Его пример...
- Правильно,- сказал я,- и его пример. Да, его пример. Об этом я позабыл.
- Но я помню. Я не могу, не могу поверить... Не могу поверить, что никогда больше его не увижу... что никто его больше не увидит никогда, никогда, никогда...
Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку; бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. Никогда его не увидит! В ту минуту я его видел достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее - трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо:
- Он умер так же, как и жил.
Тупая злоба шевельнулась во мне.
- Его конец был во всех отношениях достоин его жизни,- сказал я.
- А меня с ним не было,- прошептала она.
Злоба уступила место бесконечной жалости.
- Все, что можно было сделать...- пробормотал я.
- Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле... больше, чем его родная мать, больше, чем... он сам. Я была ему нужна! Я! Я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый его взгляд.
Я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце.
- Не надо!- сказал я сдавленным голосом.
- Простите меня. Я так долго тосковала молча... молча... Вы были с ним... до конца? Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Быть может, никто не слышал...
- Я был с ним до конца,- сказал я дрожащим голосом.- Я слышал его последние слова...- И в испуге я умолк.
- Повторите,- прошептала она надрывающим сердце голосом.- Мне нужно... мне нужно что-нибудь... что-нибудь... чтобы с этим жить.
Я чуть было не крикнул: "Да разве вы не слышите?" Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом,- шепотом угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала: "Ужас! Ужас!"
- Последнее слово... чтобы жить с ним,- настаивала она.- Поймите, я его любила, любила, любила!
Я взял себя в руки и медленно проговорил:
- Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя.
Я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик, крик великого торжества и бесконечной боли.
- Я это знала... была уверена!..
Она знала. Она была уверена. Я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать, казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. Небеса из-за таких пустяков не рушатся. Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Куртцу? Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно... слишком темно...
***
Марлоу умолк. Неясный и молчаливый, он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся.
- Мы прозевали начало отлива,- неожиданно сказал директор.
Я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устье, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом - казалось, он уводил в сердце необъятной тьмы.

Я вам рассказал, о чем мы с ним говорили, повторил фразы, какими мы обменялись... но что толку? То были банальные, повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но не в этом дело. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне, отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа! Если приходилось кому-нибудь вести борьбу душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредоточивались на нем самом. Да, ум его был ясен, и это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить, но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум. А душа его была одержима безумием. Заброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и - клянусь небом!- обезумела. Мне пришлось - должно быть, в наказание за мои грехи - подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой. Я это видел, слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха и, однако, борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа; но, когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер пот со лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка.
Когда на следующий день, в полдень, мы снялись с якоря, толпа людей - все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев - снова вышла из леса и рассыпалась по просеке; склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел пароход вверх по течению, затем повернул его; две тысячи глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки три человека, с головы до ног облепленные красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись лицом к реке, топая, кивая рогатыми головами; раскачивались их красные тела; они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву; они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи, а толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятья, как бы участвуя в сатанинской литании.
Мы перенесли Куртца в рулевую рубку: там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу.
- Вы это понимаете?- спросил я. Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами; взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка появилась на бесцветных губах; потом губы его судорожно искривились.
- Понимаю ли я?- проговорил он медленно, задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова.
Я дернул веревку свистка; сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу.
- Не надо! Не надо! Вы их спугнете!- досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной и сверкающей реке свои обнаженные руки.
Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться, и я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма.
Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю; теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше; а жизнь Куртца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно; теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он окидывал взглядом понимающим и удовлетворенным: "дело" обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником "нерационального метода". Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это нежданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки.
Куртц разглагольствовал. Ах, этот голос! Этот голос! До последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Куртца скрывать в великолепных складках красноречия темное и бесплодное его сердце. Куртц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями - призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. Моя нареченная, моя станция, моя карьера, мои идеи - вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного Куртца появлялась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам, какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти.
Иногда он бывал возмутительно ребячлив. Он желал, чтобы короли встречали его на станциях,- его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела.
- Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание,- говорил он.- Конечно, не следует забывать о мотивах... мотивы должны быть честные.
За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку; пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. Я смотрел вперед и вел судно.
- Закройте ставень,- неожиданно сказал однажды Куртц.- Я не могу этого видеть.
Я исполнил его просьбу. Последовало молчание.
- О, но я еще вырву у тебя сердце!- крикнул он невидимой глуши.
Произошла поломка,- я этого ждал,- и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка гибельно повлияла на уверенность Куртца. Как-то утром он мне вручил связку бумаг и фотографическую карточку; пакет был перевязан шнурком от ботинка.
- Спрячьте,- сказал он.- Этот зловредный дурак (он имел в виду начальника) способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю.
После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и я хотел уйти, но он забормотал:
- Жить честно, умереть, умереть...
Я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи? Он когда-то работал в газетах и думал снова заняться этим делом, "чтобы распространять мои идеи. Это - долг".
Его окутывал непроницаемый мрак. Я на него смотрел, как смотрят на человека, лежащего на дне пропасти, куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый шатун, производить ремонт. Я жил окруженный гайками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками - предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью оказавшейся на борту, я устало рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставлял меня лечь.
Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос:
- Я лежу здесь, в темноте, и жду смерти.
Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал:
- О, вздор!- и тревожно склонился над ним.
Я не представлял себе, чтобы могло так сильно измениться лицо человека, и - надеюсь - никогда больше этого не увижу. О, жалости я не чувствовал! Я был зачарован, словно передо мной разорвали пелену. Лицо, цвета слоновой кости, дышало мрачной гордостью; безграничная властность, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние - этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражение? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению... он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал как вздох:
- Ужас! Ужас!
Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно, но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роем вокруг лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением:
- Мистер Куртц... умер.
Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной. Однако ел я немного. Здесь горела лампа, было, знаете ли, светло... а там, снаружи, нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме.
А потом они едва не похоронили меня.
Однако я, как видите, не последовал в ту пору за Куртцем. Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Куртцу. Судьба. Моя судьба! Забавная штука жизнь, таинственная, с безжалостной логикой преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек,- это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления.
Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы; нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением; вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. Если такова высшая мудрость, то жизнь - загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Куртц был замечательным человеком. Ему было что сказать. Он это сказал. С тех пор как я сам поглядел за грань, мне понятен стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор: "Ужас!" Он был замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была, какая-то вера, прямота, убежденность; в шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания,- это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними,- не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением к эфемерности всего, даже самой боли. Нет! Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг, он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница; быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может! Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Уж лучше его крик - гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужасами и гнусным удовлетворением. Но это победа! Вот почему я остался верным Куртцу до конца - и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал - не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой такой же прозрачной и чистой, как кристалл.
Нет, меня они не похоронили, но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб повапленный, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка - осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом,- оскорбляла меня, как наглое чванство глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупо-самоуверенных лиц.
Пожалуй, в то время я был не совсем здоров. Я бродил по улицам - мне нужно было уладить кое-какие дела - и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что я вел себя непозволительно, но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки "восстановить мои силы" не достигали своей цели. Не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. Я хранил пачку бумаг, врученных мне Куртцем, и не знал, что с ними делать. Его мать недавно умерла; мне сказали, что ухаживала за ней его "нареченная". Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотой оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкрадчивой настойчивостью он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть "документами". Я не удивился, ибо успел дважды поссориться из-за этого с начальником. Я отказался дать ему хотя бы один листок; так же я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все, касающееся ее "территории". По его словам, "мистер Куртц должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях, ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому...".
Я уверил его, что мистер Куртц - какими бы сведениями он ни обладал - проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном: "Потеря будет велика, если..." и т.д. и т.д. Я ему предложил статью "Искоренение обычаев дикарей", оторвав предварительно постскриптум. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул.
- Это не то, на что мы имели право надеяться,- заметил он.
- Не надейтесь,- сказал я.- У меня остаются только его частные письма.
Он удалился, пригрозив судебным преследованием, и больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. "Он мог бы иметь колоссальный успех",- сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца - если была у него таковая - и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был, Куртц был универсальным гением... Я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и, взволнованный, удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма.
Наконец, посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего "дорогого коллеги". Этот посетитель сообщил, что Куртцу следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие, как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Куртц, по его мнению, писать не умел, но "как этот человек говорил! Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера - понимаете?- вера. Он мог себя убедить в чем угодно... в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии".
- Какой партии?- спросил я.
- Любой!- ответил тот.- Он... он был... экстремист. Не так ли?
Я согласился. Он полюбопытствовал, не известно ли мне, что побудило его поехать туда.
- Известно,- сказал я и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной.
Он торопливо ее просмотрел, бормоча себе что-то под нос, затем произнес:
- Пригодится,- и ушел со своей добычей.
Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива... Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение и никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да; и, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало Куртцу, от меня ускользало: его душа, его тело, его станция, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его "нареченная"; я хотел и это отдать прошлому, хотел уступить все, что у меня от него осталось, забвению - последнему слову общей нашей судьбы. Я не защищаюсь: тогда я неясно себе представлял, чего именно я хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности... или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии. Не знаю. Не могу сказать. Но я отправился к ней.
Я думал, что воспоминание о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека,- отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой и массивной дверью, между высокими домами, на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение: я увидел его на носилках; он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил, жил так, как и раньше,- ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности; призрак более темный, чем тени ночи, и благородно задрапированный в складки великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной: носилки, призраки носильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца - сердца тьмы-победительницы. То был момент триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры,- это воспоминание снова всплыло, я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. Я вспомнил гнусные его мольбы и гнусные угрозы, гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку, бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал сдержанно и вяло:
- Вся эта слоновая кость, в сущности, принадлежит мне. Фирма за нее не платила. Я сам ее собрал, рискуя жизнью. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее... Гм... Положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться, а? Я хочу только справедливости...- Он хотел только справедливости.
Во втором этаже я позвонил у двери из красного дерева, а пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки, смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим, проклинающим вселенную. Я снова слышал шепот: "Ужас! Ужас!"
Спускались сумерки. Мне пришлось подождать в высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль; отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась. Я встал.
В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном, с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор, как он умер, больше года с тех пор, как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала:
- Я слышала, что вы приехали.
Я заметил, что она не очень молода,- во всяком случае, уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице. Эти белокурые волосы, это бледное лицо и чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня. Взгляд был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать: я, я одна умею грустить по нем так, как он того заслуживает. Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял: она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера. И - клянусь небом!- это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера... Нет, сейчас, сию минуту. Я увидел его и ее вместе - его смерть и ее скорбь... Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом:
- Я выжила...- А мой напряженный слух уловил последний его шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть. Я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку.
- Вы его знали хорошо,- прошептала она, помолчав.
- В тех краях близость возникает быстро,- сказал я.- Я его знал так, как только может один человек знать другого.
- И вы им восхищались,- проговорила она.- Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли?
- Он был замечательным человеком,- сказал я нетвердым голосом. Видя ее напряженный, умоляющий взгляд, как будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова, я продолжал:
- Нельзя было не...
- ...любить его,- закончила она с жаром, а я в ужасе онемел.- О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знала я! Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было!
- Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было,- повторил я. Быть может, она была права. Но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее, и только лоб ее, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви.
- Вы были его другом,- продолжала она.- Его другом!- повторила она громче.- Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне. Я чувствую, что могу говорить с вами... и... о! я должна говорить. Я хочу, чтобы вы - человек, слышавший последние его слова,- знали, что я была достойна его... Это не гордость... Да! Я горжусь сознанием, что поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле. Он сам мне это сказал. А с тех пор, как умерла его мать, у меня не было никого... никого... кто бы...
Я слушал. Тьма сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал. Подозреваю, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии; она говорила так, как пьют жаждущие. Я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Куртцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И право же, я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края.
- ...Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом?- говорила она.- Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего.- Она пристально смотрела на меня.- Это дар великого человека...
Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те, иные звуки, исполненные тайны, отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать; журчание реки, шелест деревьев, раскачиваемых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы.
- Но вы его слышали! Вы знаете!- воскликнула она.
- Да, знаю,- сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой и спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого.
- Какая утрата для меня... для нас!- великодушно поправилась она и шепотом добавила:
- Для мира.
В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза, полные слез,- слез, которым не суждено было пролиться.
- Я была очень счастлива и очень горда,- продолжала она.- Слишком счастлива. Это продолжалось недолго. А теперь я несчастна... на всю жизнь.
Она встала; ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. Я тоже встал.
- И от всего этого,- продолжала она с тоской,- от всех его обещаний, его величия, его доброй души и благородного сердца не осталось ничего... ничего, кроме воспоминания. Вы и я...
- Мы всегда будем его помнить,- поторопился я сказать.
- Нет!- воскликнула она.- Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут.
- Его слова останутся,- сказал я.
- И его пример,- прошептала она словно про себя.- Люди смотрели на него снизу вверх... доброта его светилась в каждом поступке. Его пример...
- Правильно,- сказал я,- и его пример. Да, его пример. Об этом я позабыл.
- Но я помню. Я не могу, не могу поверить... Не могу поверить, что никогда больше его не увижу... что никто его больше не увидит никогда, никогда, никогда...
Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку; бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. Никогда его не увидит! В ту минуту я его видел достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее - трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо:
- Он умер так же, как и жил.
Тупая злоба шевельнулась во мне.
- Его конец был во всех отношениях достоин его жизни,- сказал я.
- А меня с ним не было,- прошептала она.
Злоба уступила место бесконечной жалости.
- Все, что можно было сделать...- пробормотал я.
- Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле... больше, чем его родная мать, больше, чем... он сам. Я была ему нужна! Я! Я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый его взгляд.
Я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце.
- Не надо!- сказал я сдавленным голосом.
- Простите меня. Я так долго тосковала молча... молча... Вы были с ним... до конца? Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Быть может, никто не слышал...
- Я был с ним до конца,- сказал я дрожащим голосом.- Я слышал его последние слова...- И в испуге я умолк.
- Повторите,- прошептала она надрывающим сердце голосом.- Мне нужно... мне нужно что-нибудь... что-нибудь... чтобы с этим жить.
Я чуть было не крикнул: "Да разве вы не слышите?" Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом,- шепотом угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала: "Ужас! Ужас!"
- Последнее слово... чтобы жить с ним,- настаивала она.- Поймите, я его любила, любила, любила!
Я взял себя в руки и медленно проговорил:
- Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя.
Я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик, крик великого торжества и бесконечной боли.
- Я это знала... была уверена!..
Она знала. Она была уверена. Я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать, казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. Небеса из-за таких пустяков не рушатся. Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Куртцу? Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно... слишком темно...
***
Марлоу умолк. Неясный и молчаливый, он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся.
- Мы прозевали начало отлива,- неожиданно сказал директор.
Я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устье, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом - казалось, он уводил в сердце необъятной тьмы.

Последний раз редактировалось: Gudleifr (Чт Апр 18, 2024 1:38 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Читать "честные" американские книги о войне достаточно муторно. Любой американский офицер озабочен лишь двумя мыслями: "Что я здесь делаю?" и "Должен ли я уважать нацию женщины, с которой сплю?" Американский же солдат мыслей вообще не имеет, обходясь чисто физиологическими отправлениями...
Чтобы показать хоть какие-то душевные порывы авторам приходится ставить своих героев в совсем уж экстремальные условия, выжимающие их как губки. И даже это не всегда помогает, см. например, "Красную линию" Джеймса Джонса.
Когда же американцы всерьез начинают воспевать своих героев, получается просто смешно (когда одни рискуют своей жизнью, а другие - чужими долларами, героизм становится уж очень своеобразным). См. например, "Зеленые береты" Робина Мура: найти местного жулика, пообещать денег, подождать, пока он не совершит диверсию, сдать его, деньги взять себе... Причем, невозможность присвоить деньги - неудача, худшая чем провал диверсии.
Нашел на своей старой страничке еще один огрызок:
ДЭВИД ХАЛБЕРСТЭМ
ОДИН ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ ДЕНЬ
1968
Перевод К.Чугунова
ГЛАВА ПЕРВАЯ Духовная семинария находилась на окраине маленького городка. Но священников в ней уже не было - они все вернулись в Европу. Теперь семинария превратилась в настоящую крепость, которую не так-то просто было взять штурмом: мили и мили колючей проволоки и горы мешков с песком, а на крыше - вьетнамский пулеметчик, по временам даже бодрствующий.
У ворот стоял часовой, над ним висел огромный плакат:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Группа советников США при Восьмой пехотной дивизии.
Лучшие в своем роде.
Под надписью ухмылялся карикатурный американский офицер, а ниже стояли буквы МСГЭД. На плакате эти буквы не расшифровывались, но тем, кто спрашивал, что они означают (спрашивали обычно штатские), давалось следующее устное объяснение: "Мы сыты по горло этим дерьмом".
***
Бопре спал чутким, беспокойным сном - он был весь в поту, а огромный вентилятор, крутившийся над ним, совсем не помогал и только гонял по комнате горячий воздух. Бопре чувствовал себя скверно, нервы его были настолько напряжены, что, когда за ним прислали, он сразу решил: пора воевать. Ночь уже прошла, и надо отправляться на операцию. "Волейбол,- донеслось до него сквозь дремоту.- Волейбол".
- Капитан Бопре! Хотите сыграть в волейбол?
За ним прислали какого-то молоденького капитана. Бопре даже не знал его фамилии.
- Нет,- хрипло ответил он,- какой тут к черту волейбол!
- Но меня послали за вами. Не хватает одного игрока. Нас там девять. Они говорят, что вы должны играть.
- А ну-ка посмотрите на меня, я в самом деле должен играть?
Вопрос в точку: ему тридцать восемь лет, выглядит он старше своего возраста, плотный, можно сказать, даже толстый и потеет без всякого волейбола. Задыхается и потеет.
- Правительство Соединенных Штатов,- сказал он,- потратило тысячу шестьсот долларов, чтобы доставить меня сюда, и о волейболе не было сказано ни слова.
- Нам нужен игрок,- упрямо повторил капитан.
Он был молод и в семинарию попал совсем недавно.
Его появлению предшествовали слухи. Утверждалось, что он будет очень скоро произведен в майоры.
- Молодой игрок,- поправил Бопре.
- Полковник говорит, что волейбол - это физическое упражнение. Вам нужно упражняться. Так же, как и всем нам.
- Мне упражняться не нужно,- сказал Бопре.- Я ленив. А вы все и так без конца упражняетесь.
"Черт подери,- подумал Бопре,- волейбол. Пять часов вечера, а они уже играют в этот проклятый волейбол".
В семинарии в волейбол играли все, потому что других развлечений не было. Взрослые люди. Бопре теперь слышал возгласы и покряхтывание, доносившиеся с площадки. Единственное развлечение. К тому же полковник любил волейбол и неплохо играл, хотя и преувеличивал свои достижения: маленький и жилистый, он казался самому себе отличным игроком с пушечной подачей. Сегодня этого энтузиаста волейбола не было среди играющих - полковник уехал в Сайгон и должен был вернуться вечером. Когда им не хватало игрока, полковник входил в комнату Бопре и тащил его на площадку, превращая это в маленький и почти приятный спектакль: "Смотрите, кто хочет с нами играть!" Реквизированный Бопре играл, потому что в одной из команд не хватало игрока, неуклюже метался по площадке и громко крякал - все это было очень мило и унизительно.
Он возненавидел волейбол и злорадно почувствовал себя отомщенным, когда они как-то сыграли с вьетнамскими офицерами. Вьетнамцы тоже любили волейбол, и полковник, услышав об этом, предложил матч, потому что пользовался каждым случаем, чтобы налаживать отношения. "Мы против Них". Вьетнамцы согласились охотно, даже чересчур охотно, и полковник был очень доволен. Американцы, уже видя себя в роли великодушных победителей, решили после матча устроить роскошный ужин.
Вьетнамцы пришли и стали играть - худые, даже тощие, выглядевшие довольно нелепо в своих слишком длинных шортах и старомодных рубашках (они были скромнее американцев и не раздевались до пояса). Увидев вьетнамцев рядом с рослыми, мускулистыми американцами, Бопре вдруг проникся к ним симпатией.
Игра началась, и американцы сразу же открыли счет. Когда вьетнамцы наконец тоже начали набирать очки, американцы вежливо аплодировали. Но аплодисменты прекратились, когда вьетнамцы в своих старых рубашках и шортах лихо разделались с противником. В пяти играх подряд победили вьетнамцы, с каждым разом все быстрее наращивая счет. В конце встречи вежливые аплодисменты раздавались в адрес американцев, когда им удавалось выиграть очко.
Это был неприятный день. Вьетнамцы вели себя корректно, но не проиграли последней игры. Ужин прошел, в общем, неплохо, хотя вопрос о новых встречах не поднимался. Более того, на время волейбольная лихорадка совсем прекратилась. Но через неделю неугомонный полковник воспрял духом, и американцы снова начали играть в волейбол.
Бопре продолжал прислушиваться к тому, что происходило на площадке. Инструктивное совещание состоится поздно вечером после возвращения полковника. Сначала покажут кинофильм. До совещания оставалось не менее пяти часов, но, если их проспать, потом будешь чувствовать себя еще хуже. Однако он так ненавидел волейбол, что, несмотря на мучительную духоту и скуку, не пошел смотреть, как играют. Он решил все-таки вздремнуть до кино.
Офицеры кончили играть, а полковник еще не вернулся. Он должен был приехать позже на машине по единственному в стране шоссе - вопреки запрещению Сайгона, где относились к шоссе с неприязнью и опаской и считали, что полковнику следует летать на вертолете: будет очень неприятно, если полковник вдруг попадет в засаду и погибнет в сорока милях от столицы. Но полковнику не нравился Сайгон, и по мере возможности он старался не выполнять его приказов. Он любил, как он выражался, обозревать местность, чтобы установить, кто здесь командует. Поэтому в семинарии решили пока прокрутить фильм. Обычно в фильмах показывали либо Элвиса Пресли на Гавайских островах, либо Дорис Дэй в чьей-то постели, в свежевыглаженной пижаме, с аккуратной прической. Самым интересным был тот момент, когда Дорис, почистив зубы, уже лежала в постели, а по стене, служившей экраном, вдруг начинала карабкаться ящерица. Кто-нибудь, обычно Ролстон, сообщал, что именно намерена сделать ящерица, и все начинали подбадривать ее: "Валяй, валяй, старина!" - или, если ящерица убегала, разочарованно стонали: "Слабак!" и "Поучи-ка его, Бопре!" (так как Бопре была присвоена репутация бабника). Иногда на экране появлялась вторая ящерица, предположительно самка, и тогда в разгар ковбойской погони или пребывания Дорис Дэй в чьей-то постели зрители смотрели только на двух ящериц, исполнявших свой любовный танец.
Но в этот вечер не было ни Элвиса, ни Дорис, ни ящериц, потому что брачный сезон у них кончился, а показывали "Пушки Наваррона" - фильм, который будто бы все еще шел на экранах Нью-Йорка ("Ну конечно, в Уотертауне, штат Нью-Йорк",- заметил кто-то). Но все равно по их нормам это был боевик, а их нормы определялись тем, что им присылало военное ведомство, то есть фильмами, которые не желали смотреть офицеры в Сайгоне.
Это был прекрасный фильм, полный напряженного действия, красивых горных пейзажей и подвигов Грегори Пека и Энтони Куина, которые на этот раз сражались на одной стороне, хотя и не доверяли друг другу. Все шло хорошо, пока кто-то из зрителей не разгадал сущность Пека и не крикнул: "Да он же вьетконговец!" [Вьетконговцы - так называли вьетнамских патриотов американцы и их марионетки (от "Вьетконг" - букв, "вьетнамский коммунист")] Эти слова всех как-то ошарашили, а потом до всех дошло, что так оно, пожалуй, и есть и что Пек - вьетконговец, после чего фильм начал восприниматься совсем по-другому, все сразу перестали сочувствовать Пеку, сердца уже не бились тревожно при приближении немцев, и красавица, как будто верная Пеку, а на деле постоянно предававшая его (в фильме - шпионка, а в глазах зрителей теперь - доблестный агент своего правительства), вызывала одобрительные возгласы. С этой минуты они стали громко подбадривать немецких часовых, а когда Пек и его товарищи принялись безнаказанно сновать мимо часовых, Ролстон послал сержанта проверить, стоят ли посты вокруг семинарии и не проникли, чего доброго, в лагерь какой-нибудь вьетконговец. Когда сержант вернулся в столовую, где показывали фильм, и доложил, что застал одного вьетнамского часового спящим, раздался хохот, сразу разрядивший напряжение. На экране немцы, предупрежденные шпионкой, арестовали на рынке Пека и прочих. В зале закричали "ура", а кто-то, чувствуя, что Пеку не время умирать или исчезать в середине картины, скомандовал: "Пленных не брать!" И Пек действительно не погиб, а бежал и продолжал мужественно бороться, подавив недовольство среди штатских членов своей группы. Преодолевая одно препятствие за другим, они наконец добрались до батарей, специально охранявшихся от партизан, и - о чудо из чудес!- заставили пушки замолчать.
- Хороший фильм!- сказал лейтенант Андерсон, когда они выходили из зала.
- Да,- сказал капитан Бопре, раздосадованный тем, что не получил почти никакого удовольствия от картины, тем, что Вьетнам лишил интереса даже подвиги Грегори Пека, убивавшего немцев.
Бопре взглянул на часы и увидел, что до совещания у них еще есть время выпить.
- Угостите старика!- сказал он Андерсону.
Они пошли в бар и заказали по одной. Андерсону не хотелось пить, тем более перед инструктивным совещанием, но за шесть месяцев Бопре так редко приглашал его выпить, что отказаться было невозможно. Пока они пили, к ним подсел капеллан и сделал вид, что хочет выпить вместе с ними (Бопре давно подозревал, что капеллан пить не любит и весь вечер перед ним стоит одна-единственная жестянка пива). Капеллан вечно сидел в баре - но пьяным его никогда не видели - и первый смеялся соленым анекдотам, хотя сам их никогда не рассказывал. Бопре почти жалел беднягу (что было редким исключением, ибо вообще-то он не терпел армейских священников), который прилагал столько усилий, чтобы сойти за своего. Эта была трудная война для священника: дело ему приходилось иметь либо с офицерами, либо с солдатами-ветеранами, а война пока еще носила такой характер, что они не искали утешения у бога. И капеллан с некоторой тоской вспоминал про Корею и про то, какая там была армия. Бопре предложил Андерсону угостить капеллана и увидел, как они оба смутились. Андерсон был еще настолько молод и наивен, что присутствие капеллана в баре его смущало. Эта сценка развлекла Бопре: простодушный молодой офицер не хочет угощать пивом человека, который сам не хочет, чтобы его угощали. Даже время словно потекло быстрее, и следующие полчаса Бопре старался быть особенно любезным со священником. Он нарочно завел речь о Корее и о том, как там было трудно, и капеллан разговорился. Прежде Бопре был довольно сух с капелланом и сейчас понимал, что тот не сразу почувствовал себя в своей тарелке. Это забавляло его, и так он развлекался, пока их не позвали на инструктивное совещание.
***
Инструктивное совещание представляло собой странное зрелище, так как большинство офицеров уже готовились ко сну и явились на него в японских купальных сандалиях, с полотенцами вокруг бедер. Их обнаженные торсы говорили о переменах в армии: молодые, стройные, подтянутые жаждали деятельности, тогда как более пожилые, уже побывавшие на двух войнах, за долгие годы мира и мирного армейского рациона успели обзавестись брюшком. Загар у большинства был профессиональный - кирпичные лица и предплечья, а дальше - бледная кожа. Только немногие спортсмены-энтузиасты (почти все из нестроевой службы) загорели по-настоящему: те, кому приходилось жить и работать под солнцем дельты, не стремились загорать в свободные дни. Полковник был белее всех, даже шея у него была белая. Бопре иногда задавался вопросом, почему полковник не загорает,- казалось бы, во время операций он мог обгореть не хуже остальных, но он оставался белым. Как начальника они его любили и доверяли ему. В частности, потому, что он старался лгать им как можно меньше. Был он человек открытый, прямой и вспыльчивый, и сейчас, едва взглянув на неге, Бопре понял, что шеф недоволен своей поездкой в Сайгон и недоволен планом операции.
Указкой полковник обвел на карте объект-базу вьетконговцев, расположенную, по полученным данным, на одной из дорог, пересекающих район.
- Мотель Хо Ши Мина,- повторил кто-то бородатую, но все еще популярную остроту.
- Насколько верны данные разведки, сэр?- спросил другой.
- Вьетнамцы, кажется, считают их достаточно верными,- ответил полковник, делая упор на слове "вьетнамцы".
Кто-то засмеялся. Вот за это они и любили полковника.
- Участвовали ли мы в разработке операции?- спросил кто-то.
- Участвовали ли мы в разработке операции?- повторил полковник, теперь делая упор на слове "мы". Он состроил гримасу.- Отчасти. Наши друзья называли другие места, где, как мы полагаем, противника нет и никогда не было.- Он сделал паузу, давая им время улыбнуться.- Мы же высказались в пользу тех пунктов, где, по данным нашей аэрофоторазведки, противник возводит довольно сильные оборонительные укрепления. После чего был достигнут компромисс, и мы остановились на данном объекте, хотя капитан Донован из нашей разведки сообщил мне, что, как он подозревает, это именно то место, которое наши друзья с самого начала имели в виду. Я подозреваю, что подозрения капитана Донована вполне обоснованны.
Смех. Услышав его, полковник улыбнулся легкой, довольной улыбкой. Он был скромным человеком, похожим скорее на школьного учителя, чем на полковника, а его манера выражаться и ирония, по мнению Бопре, говорили о том, что полковник раз и навсегда понял: никогда ему не быть генералом, а жене его - генеральшей, ибо, насколько было известно Бопре, пять лет назад полковник не считался остряком.
Полковник стал медленно объяснять план операции. Три группы. Одна вылетит на вертолетах после того, как выступят две другие. Вот деревни, в районе которых они должны приземлиться.
- Кто полетит завтра?- спросил полковник.- Кто хочет прославить себя и быть заснятым в прыжке с вертолета?
Бопре сидел и ждал, стараясь придать своему лицу безучастное выражение. "А то еще вдруг решат, что я хочу",- подумал он. На самом же деле он вовсе не хотел лететь на вертолете, но не хотел угодить и в резервную группу, которая сидит на КП, вступает в действие, только когда остальные силы входят в соприкосновение с противником, и чаще всего попадает во вторую, специально подготовленную засаду. Ему хотелось быть в наземной группе. Бопре обвел взглядом лица присутствующих: некоторые - молодые лица - горели желанием отличиться, на других было безразличие. "Возможно, и эти,- подумал он,- предпочли бы вертолет, но они слишком горды, чтобы сказать открыто". Бопре был чуть старше и, пожалуй, чуть больше напуган, чем большинство. Он посмотрел на сидевшего рядом лейтенанта, своего собственного лейтенанта, чье лицо было особенно напряженным. Лейтенанту хотелось попасть на вертолет, он любил десантные операции.
- Ну так я сам выберу героев, - сказал полковник, скользнув взглядом по лицам присутствующих. Наступила короткая пауза. Полковнику был приятен ее драматизм.- Редферн. Капитан Редферн,- сказал он.
Капитана Уильяма Редферна все (и чаще всех он сам) называли Большим Уильямом.
- Редферн, вы и ваши разведчики готовы?
- Большой Уильям и его разведчики всегда готовы,- ответил Редферн.- По правде говоря, господин полковник, сэр, они обиделись бы, если бы узнали, что вы задаете такой вопрос.
Редферн, великан-негр родом из Пиккенса, штат Алабама, был дипломированным специалистом-нефтяником, и в дипломе у него, по его словам, так и стояло: "Большой Уильям". Он говорил, что его собирались взять на пробу в профессиональную футбольную команду, но из этого ничего не вышло - дядя Джим не захотел, чтоб он играл. "Какой дядя Джим?" - спрашивали его. "Дядя Джим Кроу,- отвечал он.- Какой еще может быть дядя Джим, если не Джим Кроу? Но дядя Джим не дурак и не помешал Большому Уильяму попробовать свои силы в армии - так он мне все и возместил". Большой Уильям не был ни вежливым, ни скромным и не обращал никакого внимания, слушает ли кто-нибудь его похвальбу. Был он чернее черного: его семья избежала "интеграции", говорил он. Походка у него была чуть раскачивающаяся, грациозно-чувственная, и он всегда ходил с тросточкой из слоновой кости, словно желая подчеркнуть свою грацию и цвет кожи. Не считаясь с чужим покоем и чужим вкусом, он всегда включал на полную мощность свой проигрыватель, из которого лилась будоражащая, чувственная музыка. И еще он без конца говорил о женщинах, хвастаясь своими успехами. Не все его качества были привлекательны, и в семинарии постоянно шли споры, действительно ли Большой Уильям так уж хорош. Некоторым молодым офицерам он нравился (как и его музыка), они благоговели перед его гигантской фигурой и воспринимали Большого Уильяма так, как воспринимал себя он сам. Он, говорили иногда самые молодые, лучший офицер-негр, какого им приходилось видеть. Другие, постарше, в частности Ролстон, говорили, что он такое же трепло, как и все прочие, только треплется громче других. "Вы их просто не знаете,- говорил Ролстон,- а я навидался их, и он вовсе не самый лучший, потому что лучших среди них вообще нет; возможно даже, он худший, так как худшие среди них попадаются". (Полковник, которому однажды в жаркий вечер пришлось решать эту проблему, так как к нему явилась неофициальная делегация офицеров жаловаться на проигрыватель Большого Уильяма - только на его проигрыватель,- сказал следующее: "Конечно, он трепло, на этот счет никаких сомнений: я никогда не встречал офицера, который хвастал бы больше его. Хвастовство не лучшее качество офицера, и мне не хотелось бы, чтобы и вы все начали хвастать. И тем не менее он дьявольски хороший офицер. Любопытно, что сам он этого еще не знает. Слишком занят, разыгрывая из себя хорошего офицера. Вероятно, так получилось случайно. Он не самый лучший их моих офицеров - отнюдь, но советник, пожалуй, лучший. Вьетнамцы на него прямо молятся. Им все в нем нравится. Даже его музыка"). Так оно и было: вьетнамцев поражал его рост, цвет кожи, могучий бас, а он в их присутствии расцветал, чувствуя себя в своей стихии. Каждое утро он здоровался с ними: "Доброе утро, вьетнамцы!" - а они нараспев, как он их учил, отвечали: "Доброе утро, Большой Уильям!" "Как дела?" - спрашивал он. "Дела идут хорошо!" - отвечали вьетнамцы тоненькими, как у школьников, голосами.
- Ко мне продолжают поступать сведения, что рейнджеры [Рейнджеры - солдаты диверсионно-десантной группы] теряют свою свирепость и цивилизуются прямо на глазах. Это правда, Большой Уильям?- спросил полковник.
Большой Уильям покачал головой, как человек, которого оклеветали.
- Извините, господин полковник, сэр, но это брехня. Большой Уильям не спускает глаз с рейнджеров и может гарантировать, что они злы, как прежде. Да если я замечу у них джентльменские замашки, я с них шкуру спущу в вашу честь. Но Большой Уильям передаст им ваши слова, сэр.
- Хорошо, капитан Редферн. Берите вертолеты и готовьте десант.
На лице Андерсона отразилось явное разочарование. Бопре перевел взгляд на Большого Уильяма: по его лицу ясно было, что рейнджеры и их советник получили лишь то, чего заслуживали.
- Взбодрите их, Большой Уильям. Пусть зададут жару,- сказал полковник.
Негр кивнул.
- Завтра они полетят, господин полковник. Нам и вертолеты не нужны, это нас только задержит. Вы хотите, чтобы мы задали жару,- хорошо. Зададим.
До приезда Большого Уильяма рейнджеры всегда озадачивали американцев. Предполагалось, что это отборные части вроде морской пехоты или авиадесантников. Но это было не так. Толку от них было мало, и они постоянно обманывали ожидания американцев. (Донован, начальник разведки, говорил, что слово "отборный" надо понимать в другом смысле: подчиняясь требованию высокопоставленных чинуш, офицеры передавали в эти части не самых лучших своих людей и не самых худших, а просто, как считал Донован, самых недисциплинированных и своевольных).
- Капитан Бопре!- сказал полковник.- Вы будете подходить к этому пункту во главе колонны пехотинцев с востока. Старайтесь сдерживать вашего "тигра" и не давайте ему слишком часто завязывать бой с противником по дороге.
Эти слова вызвали новый взрыв смеха, так как все были очень довольны, что Бопре - раздражительного и нередко злого на язык человека - прикрепили к Дангу, который считался худшим из вьетнамских офицеров.
После того как полковник кончил отдавать распоряжения и изобразил в лицах свои беседы в Сайгоне - достаточно смешно, но в границах приличия ("Ну как там ваши войска в дельте, Гаррисон?" - "Отлично, сэр".- "Это хорошо, Гаррисон, продолжайте в том же духе!"),- они начали расходиться.
Андерсон задержался, стал жаловаться: вот беда, завтра весь день придется шагать пешком. "Дурак,- подумал Бопре,- пешком же безопасней, чем по воздуху. До чего же ты еще молод, черт побери".
- Большому Уильяму повезло,- сказал Андерсон.
- Да,- сказал Бопре.- Завтра, видно, будет жарко.- И подумал: "Повезло везучему негру".
- Капитан Бопре!- позвал его полковник.
Бопре вернулся в комнату для совещаний. Кроме полковника, там уже никого не было.
- По моим расчетам, вы завтра сбросите восемь фунтов. Он внимательно оглядел Бопре.- А может быть, и девять. Нет, все-таки восемь. Пять из-за жары и три из-за Данга.
Бопре шагнул к двери.
- Вы, я вижу, хотите остаться при нем,- сказал полковник.- А ведь все от вас зависит. Перевод легко устроить.
- Я останусь при нем,- сказал Бопре.
Он ответил, почти не думая, машинально. Одним из самых заветных его желаний было расстаться с Дангом. Но он знал, как обрадовался бы Данг, если бы он перевелся в другую часть, уступив место какому-нибудь новичку.
Бопре вышел и побрел в бар - выпить перед сном. В баре никого не было. Андерсон уже ушел спать. Перед операциями Андерсон никогда не пил больше двух банок пива и обязательно высыпался.
Бопре вырвал из книжечки талоны на две рюмки коньяку и налил себе сам.- Здесь офицерам доверяли, поскольку дело касалось спиртных напитков, предназначенных и для других офицеров.
Он мысленно ругал Вьетнам, Мито и вынужденное безбрачие тех, кто не давал обета безбрачия. Семинарии годятся для священников, которым ничего другого и не нужно. И более подходящего места для семинарии, чем Мито, не найти, ибо здесь нет соблазнов. Но беда в том, что это место не подходит для взрослых здоровых мужчин, особенно для тех, кто завтра будет рисковать жизнью.
Он вспомнил, как приехал в Мито: ему так хотелось, чтобы его чистая, накрахмаленная форма сохранила всю свою первозданную свежесть, но пришлось слишком долго ждать в Таншоннят на солнцепеке, и он приехал на место весь измятый. Его встретил молодой и очень красивый майор.
- Добро пожаловать в Мито, капитан Бупрат.
- Бопре. Спасибо. Рад, что наконец добрался.
- Прошу прощения. В любом случае - добро пожаловать. Здесь не так уж плохо.
- На первый взгляд этого не скажешь.
- Близко от Сайгона, в этом все дело.
- А как тут с развлечениями? Я имею в виду - в смысле злачных мест?
- Не имеется. Забыли изобрести.
- Местные дамы?
- Ни-ни! Ни мне, ни вам и вообще никому из длинноносых. Приказ полковника. Он принимает это близко к сердцу, говорит, что подобные вещи вредят нашим взаимоотношениям с друзьями. Если вам уж очень приспичит, поезжайте в Сайгон. Большой город. Два миллиона жителей. Множество дам. Там вы меньше рискуете наскочить на родственницу вашего вьетнамского коллеги. Полковнику это не понравилось бы. Как я уже сказал, добро пожаловать.
- Значит, полковник - ханжа?
- Здесь нет ханжей, капитан. Мы все делаем то, что должны делать, хотя нам не всегда это нравится, из чего следует, что делаем мы это лучше, чем намеревались. А полковник у нас лучше других. И не заставляет нас белить ящики из-под угля, как вы, по-видимому, ожидали.
Бопре выпил вторую рюмку коньяку, размышляя, побриться ли ему сейчас, перед сном, или попытаться проделать это утром, или же вовсе не бриться. К такого рода решениям он относился весьма серьезно, потому что тут все зависело только от него одного, а возможность проявлять свою волю представлялась ему теперь очень редко. Если побриться сейчас, то утром он будет хоть и не чисто, но все же выбрит; правда, в тропиках борода растет быстро, но, когда они выступят, это уже будет извинительно. Правильнее всего было бы побриться утром, но можно не успеть. Если же вовсе не бриться, то утром, при встрече с Дангом, у него будет неряшливый вид, а за день щетина отрастет еще сильнее. Ему не хотелось бриться, но не хотелось и показываться Дангу заросшим. Бопре выругал армейские порядки, которые всегда одерживают верх, даже здесь, где война и смерть и где можно было бы не думать обо всей этой ерунде, а ты вдруг обнаруживаешь, что эта ерунда вошла в твою плоть и кровь и ты сам ей подчиняешься, хотя никто тебя не заставляет. Он пошел к себе и достал бритву.
Была полночь. В половине третьего вставать. Те, кто полетит на вертолетах, обладают единственным, но завидным преимуществом: они могут спать до четырех,- а вот пехоте приходится вставать раньше. Донован, начальник разведки, утверждал, что вьетконговцы держат в семинарии своих агентов только для того, чтобы знать, когда там встают. И если подъем будет раньше двух тридцати, то, утверждал Донован, об этом немедленно узнают в самых отдаленных уголках сектора. Это показалось логичным (кто-то спросил Донована, знает ли он этих агентов, а он ответил, что не знает; тогда кто-то предложил уволить весь обслуживающий персонал и набрать новый, но Донован сказал, что это ничего не даст, так как и среди нового состава окажутся все те же, прежние), но потом кто-то из новичков-лейтенантов предложил перехитрить вьетконговцев и вставать в дни операции как можно раньше. Полковник сказал, что он обдумает это предложение, и, слава богу, про него забыли. Значит, если повезет, подумал Бопре, он поспит два часа. Он поглядел на кровать Андерсона, увидел, что тот спит, и попробовал уснуть сам.
Чтобы показать хоть какие-то душевные порывы авторам приходится ставить своих героев в совсем уж экстремальные условия, выжимающие их как губки. И даже это не всегда помогает, см. например, "Красную линию" Джеймса Джонса.
Когда же американцы всерьез начинают воспевать своих героев, получается просто смешно (когда одни рискуют своей жизнью, а другие - чужими долларами, героизм становится уж очень своеобразным). См. например, "Зеленые береты" Робина Мура: найти местного жулика, пообещать денег, подождать, пока он не совершит диверсию, сдать его, деньги взять себе... Причем, невозможность присвоить деньги - неудача, худшая чем провал диверсии.
Нашел на своей старой страничке еще один огрызок:
ДЭВИД ХАЛБЕРСТЭМ
ОДИН ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ ДЕНЬ
1968
Перевод К.Чугунова
ГЛАВА ПЕРВАЯ Духовная семинария находилась на окраине маленького городка. Но священников в ней уже не было - они все вернулись в Европу. Теперь семинария превратилась в настоящую крепость, которую не так-то просто было взять штурмом: мили и мили колючей проволоки и горы мешков с песком, а на крыше - вьетнамский пулеметчик, по временам даже бодрствующий.
У ворот стоял часовой, над ним висел огромный плакат:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Группа советников США при Восьмой пехотной дивизии.
Лучшие в своем роде.
Под надписью ухмылялся карикатурный американский офицер, а ниже стояли буквы МСГЭД. На плакате эти буквы не расшифровывались, но тем, кто спрашивал, что они означают (спрашивали обычно штатские), давалось следующее устное объяснение: "Мы сыты по горло этим дерьмом".
***
Бопре спал чутким, беспокойным сном - он был весь в поту, а огромный вентилятор, крутившийся над ним, совсем не помогал и только гонял по комнате горячий воздух. Бопре чувствовал себя скверно, нервы его были настолько напряжены, что, когда за ним прислали, он сразу решил: пора воевать. Ночь уже прошла, и надо отправляться на операцию. "Волейбол,- донеслось до него сквозь дремоту.- Волейбол".
- Капитан Бопре! Хотите сыграть в волейбол?
За ним прислали какого-то молоденького капитана. Бопре даже не знал его фамилии.
- Нет,- хрипло ответил он,- какой тут к черту волейбол!
- Но меня послали за вами. Не хватает одного игрока. Нас там девять. Они говорят, что вы должны играть.
- А ну-ка посмотрите на меня, я в самом деле должен играть?
Вопрос в точку: ему тридцать восемь лет, выглядит он старше своего возраста, плотный, можно сказать, даже толстый и потеет без всякого волейбола. Задыхается и потеет.
- Правительство Соединенных Штатов,- сказал он,- потратило тысячу шестьсот долларов, чтобы доставить меня сюда, и о волейболе не было сказано ни слова.
- Нам нужен игрок,- упрямо повторил капитан.
Он был молод и в семинарию попал совсем недавно.
Его появлению предшествовали слухи. Утверждалось, что он будет очень скоро произведен в майоры.
- Молодой игрок,- поправил Бопре.
- Полковник говорит, что волейбол - это физическое упражнение. Вам нужно упражняться. Так же, как и всем нам.
- Мне упражняться не нужно,- сказал Бопре.- Я ленив. А вы все и так без конца упражняетесь.
"Черт подери,- подумал Бопре,- волейбол. Пять часов вечера, а они уже играют в этот проклятый волейбол".
В семинарии в волейбол играли все, потому что других развлечений не было. Взрослые люди. Бопре теперь слышал возгласы и покряхтывание, доносившиеся с площадки. Единственное развлечение. К тому же полковник любил волейбол и неплохо играл, хотя и преувеличивал свои достижения: маленький и жилистый, он казался самому себе отличным игроком с пушечной подачей. Сегодня этого энтузиаста волейбола не было среди играющих - полковник уехал в Сайгон и должен был вернуться вечером. Когда им не хватало игрока, полковник входил в комнату Бопре и тащил его на площадку, превращая это в маленький и почти приятный спектакль: "Смотрите, кто хочет с нами играть!" Реквизированный Бопре играл, потому что в одной из команд не хватало игрока, неуклюже метался по площадке и громко крякал - все это было очень мило и унизительно.
Он возненавидел волейбол и злорадно почувствовал себя отомщенным, когда они как-то сыграли с вьетнамскими офицерами. Вьетнамцы тоже любили волейбол, и полковник, услышав об этом, предложил матч, потому что пользовался каждым случаем, чтобы налаживать отношения. "Мы против Них". Вьетнамцы согласились охотно, даже чересчур охотно, и полковник был очень доволен. Американцы, уже видя себя в роли великодушных победителей, решили после матча устроить роскошный ужин.
Вьетнамцы пришли и стали играть - худые, даже тощие, выглядевшие довольно нелепо в своих слишком длинных шортах и старомодных рубашках (они были скромнее американцев и не раздевались до пояса). Увидев вьетнамцев рядом с рослыми, мускулистыми американцами, Бопре вдруг проникся к ним симпатией.
Игра началась, и американцы сразу же открыли счет. Когда вьетнамцы наконец тоже начали набирать очки, американцы вежливо аплодировали. Но аплодисменты прекратились, когда вьетнамцы в своих старых рубашках и шортах лихо разделались с противником. В пяти играх подряд победили вьетнамцы, с каждым разом все быстрее наращивая счет. В конце встречи вежливые аплодисменты раздавались в адрес американцев, когда им удавалось выиграть очко.
Это был неприятный день. Вьетнамцы вели себя корректно, но не проиграли последней игры. Ужин прошел, в общем, неплохо, хотя вопрос о новых встречах не поднимался. Более того, на время волейбольная лихорадка совсем прекратилась. Но через неделю неугомонный полковник воспрял духом, и американцы снова начали играть в волейбол.
Бопре продолжал прислушиваться к тому, что происходило на площадке. Инструктивное совещание состоится поздно вечером после возвращения полковника. Сначала покажут кинофильм. До совещания оставалось не менее пяти часов, но, если их проспать, потом будешь чувствовать себя еще хуже. Однако он так ненавидел волейбол, что, несмотря на мучительную духоту и скуку, не пошел смотреть, как играют. Он решил все-таки вздремнуть до кино.
Офицеры кончили играть, а полковник еще не вернулся. Он должен был приехать позже на машине по единственному в стране шоссе - вопреки запрещению Сайгона, где относились к шоссе с неприязнью и опаской и считали, что полковнику следует летать на вертолете: будет очень неприятно, если полковник вдруг попадет в засаду и погибнет в сорока милях от столицы. Но полковнику не нравился Сайгон, и по мере возможности он старался не выполнять его приказов. Он любил, как он выражался, обозревать местность, чтобы установить, кто здесь командует. Поэтому в семинарии решили пока прокрутить фильм. Обычно в фильмах показывали либо Элвиса Пресли на Гавайских островах, либо Дорис Дэй в чьей-то постели, в свежевыглаженной пижаме, с аккуратной прической. Самым интересным был тот момент, когда Дорис, почистив зубы, уже лежала в постели, а по стене, служившей экраном, вдруг начинала карабкаться ящерица. Кто-нибудь, обычно Ролстон, сообщал, что именно намерена сделать ящерица, и все начинали подбадривать ее: "Валяй, валяй, старина!" - или, если ящерица убегала, разочарованно стонали: "Слабак!" и "Поучи-ка его, Бопре!" (так как Бопре была присвоена репутация бабника). Иногда на экране появлялась вторая ящерица, предположительно самка, и тогда в разгар ковбойской погони или пребывания Дорис Дэй в чьей-то постели зрители смотрели только на двух ящериц, исполнявших свой любовный танец.
Но в этот вечер не было ни Элвиса, ни Дорис, ни ящериц, потому что брачный сезон у них кончился, а показывали "Пушки Наваррона" - фильм, который будто бы все еще шел на экранах Нью-Йорка ("Ну конечно, в Уотертауне, штат Нью-Йорк",- заметил кто-то). Но все равно по их нормам это был боевик, а их нормы определялись тем, что им присылало военное ведомство, то есть фильмами, которые не желали смотреть офицеры в Сайгоне.
Это был прекрасный фильм, полный напряженного действия, красивых горных пейзажей и подвигов Грегори Пека и Энтони Куина, которые на этот раз сражались на одной стороне, хотя и не доверяли друг другу. Все шло хорошо, пока кто-то из зрителей не разгадал сущность Пека и не крикнул: "Да он же вьетконговец!" [Вьетконговцы - так называли вьетнамских патриотов американцы и их марионетки (от "Вьетконг" - букв, "вьетнамский коммунист")] Эти слова всех как-то ошарашили, а потом до всех дошло, что так оно, пожалуй, и есть и что Пек - вьетконговец, после чего фильм начал восприниматься совсем по-другому, все сразу перестали сочувствовать Пеку, сердца уже не бились тревожно при приближении немцев, и красавица, как будто верная Пеку, а на деле постоянно предававшая его (в фильме - шпионка, а в глазах зрителей теперь - доблестный агент своего правительства), вызывала одобрительные возгласы. С этой минуты они стали громко подбадривать немецких часовых, а когда Пек и его товарищи принялись безнаказанно сновать мимо часовых, Ролстон послал сержанта проверить, стоят ли посты вокруг семинарии и не проникли, чего доброго, в лагерь какой-нибудь вьетконговец. Когда сержант вернулся в столовую, где показывали фильм, и доложил, что застал одного вьетнамского часового спящим, раздался хохот, сразу разрядивший напряжение. На экране немцы, предупрежденные шпионкой, арестовали на рынке Пека и прочих. В зале закричали "ура", а кто-то, чувствуя, что Пеку не время умирать или исчезать в середине картины, скомандовал: "Пленных не брать!" И Пек действительно не погиб, а бежал и продолжал мужественно бороться, подавив недовольство среди штатских членов своей группы. Преодолевая одно препятствие за другим, они наконец добрались до батарей, специально охранявшихся от партизан, и - о чудо из чудес!- заставили пушки замолчать.
- Хороший фильм!- сказал лейтенант Андерсон, когда они выходили из зала.
- Да,- сказал капитан Бопре, раздосадованный тем, что не получил почти никакого удовольствия от картины, тем, что Вьетнам лишил интереса даже подвиги Грегори Пека, убивавшего немцев.
Бопре взглянул на часы и увидел, что до совещания у них еще есть время выпить.
- Угостите старика!- сказал он Андерсону.
Они пошли в бар и заказали по одной. Андерсону не хотелось пить, тем более перед инструктивным совещанием, но за шесть месяцев Бопре так редко приглашал его выпить, что отказаться было невозможно. Пока они пили, к ним подсел капеллан и сделал вид, что хочет выпить вместе с ними (Бопре давно подозревал, что капеллан пить не любит и весь вечер перед ним стоит одна-единственная жестянка пива). Капеллан вечно сидел в баре - но пьяным его никогда не видели - и первый смеялся соленым анекдотам, хотя сам их никогда не рассказывал. Бопре почти жалел беднягу (что было редким исключением, ибо вообще-то он не терпел армейских священников), который прилагал столько усилий, чтобы сойти за своего. Эта была трудная война для священника: дело ему приходилось иметь либо с офицерами, либо с солдатами-ветеранами, а война пока еще носила такой характер, что они не искали утешения у бога. И капеллан с некоторой тоской вспоминал про Корею и про то, какая там была армия. Бопре предложил Андерсону угостить капеллана и увидел, как они оба смутились. Андерсон был еще настолько молод и наивен, что присутствие капеллана в баре его смущало. Эта сценка развлекла Бопре: простодушный молодой офицер не хочет угощать пивом человека, который сам не хочет, чтобы его угощали. Даже время словно потекло быстрее, и следующие полчаса Бопре старался быть особенно любезным со священником. Он нарочно завел речь о Корее и о том, как там было трудно, и капеллан разговорился. Прежде Бопре был довольно сух с капелланом и сейчас понимал, что тот не сразу почувствовал себя в своей тарелке. Это забавляло его, и так он развлекался, пока их не позвали на инструктивное совещание.
***
Инструктивное совещание представляло собой странное зрелище, так как большинство офицеров уже готовились ко сну и явились на него в японских купальных сандалиях, с полотенцами вокруг бедер. Их обнаженные торсы говорили о переменах в армии: молодые, стройные, подтянутые жаждали деятельности, тогда как более пожилые, уже побывавшие на двух войнах, за долгие годы мира и мирного армейского рациона успели обзавестись брюшком. Загар у большинства был профессиональный - кирпичные лица и предплечья, а дальше - бледная кожа. Только немногие спортсмены-энтузиасты (почти все из нестроевой службы) загорели по-настоящему: те, кому приходилось жить и работать под солнцем дельты, не стремились загорать в свободные дни. Полковник был белее всех, даже шея у него была белая. Бопре иногда задавался вопросом, почему полковник не загорает,- казалось бы, во время операций он мог обгореть не хуже остальных, но он оставался белым. Как начальника они его любили и доверяли ему. В частности, потому, что он старался лгать им как можно меньше. Был он человек открытый, прямой и вспыльчивый, и сейчас, едва взглянув на неге, Бопре понял, что шеф недоволен своей поездкой в Сайгон и недоволен планом операции.
Указкой полковник обвел на карте объект-базу вьетконговцев, расположенную, по полученным данным, на одной из дорог, пересекающих район.
- Мотель Хо Ши Мина,- повторил кто-то бородатую, но все еще популярную остроту.
- Насколько верны данные разведки, сэр?- спросил другой.
- Вьетнамцы, кажется, считают их достаточно верными,- ответил полковник, делая упор на слове "вьетнамцы".
Кто-то засмеялся. Вот за это они и любили полковника.
- Участвовали ли мы в разработке операции?- спросил кто-то.
- Участвовали ли мы в разработке операции?- повторил полковник, теперь делая упор на слове "мы". Он состроил гримасу.- Отчасти. Наши друзья называли другие места, где, как мы полагаем, противника нет и никогда не было.- Он сделал паузу, давая им время улыбнуться.- Мы же высказались в пользу тех пунктов, где, по данным нашей аэрофоторазведки, противник возводит довольно сильные оборонительные укрепления. После чего был достигнут компромисс, и мы остановились на данном объекте, хотя капитан Донован из нашей разведки сообщил мне, что, как он подозревает, это именно то место, которое наши друзья с самого начала имели в виду. Я подозреваю, что подозрения капитана Донована вполне обоснованны.
Смех. Услышав его, полковник улыбнулся легкой, довольной улыбкой. Он был скромным человеком, похожим скорее на школьного учителя, чем на полковника, а его манера выражаться и ирония, по мнению Бопре, говорили о том, что полковник раз и навсегда понял: никогда ему не быть генералом, а жене его - генеральшей, ибо, насколько было известно Бопре, пять лет назад полковник не считался остряком.
Полковник стал медленно объяснять план операции. Три группы. Одна вылетит на вертолетах после того, как выступят две другие. Вот деревни, в районе которых они должны приземлиться.
- Кто полетит завтра?- спросил полковник.- Кто хочет прославить себя и быть заснятым в прыжке с вертолета?
Бопре сидел и ждал, стараясь придать своему лицу безучастное выражение. "А то еще вдруг решат, что я хочу",- подумал он. На самом же деле он вовсе не хотел лететь на вертолете, но не хотел угодить и в резервную группу, которая сидит на КП, вступает в действие, только когда остальные силы входят в соприкосновение с противником, и чаще всего попадает во вторую, специально подготовленную засаду. Ему хотелось быть в наземной группе. Бопре обвел взглядом лица присутствующих: некоторые - молодые лица - горели желанием отличиться, на других было безразличие. "Возможно, и эти,- подумал он,- предпочли бы вертолет, но они слишком горды, чтобы сказать открыто". Бопре был чуть старше и, пожалуй, чуть больше напуган, чем большинство. Он посмотрел на сидевшего рядом лейтенанта, своего собственного лейтенанта, чье лицо было особенно напряженным. Лейтенанту хотелось попасть на вертолет, он любил десантные операции.
- Ну так я сам выберу героев, - сказал полковник, скользнув взглядом по лицам присутствующих. Наступила короткая пауза. Полковнику был приятен ее драматизм.- Редферн. Капитан Редферн,- сказал он.
Капитана Уильяма Редферна все (и чаще всех он сам) называли Большим Уильямом.
- Редферн, вы и ваши разведчики готовы?
- Большой Уильям и его разведчики всегда готовы,- ответил Редферн.- По правде говоря, господин полковник, сэр, они обиделись бы, если бы узнали, что вы задаете такой вопрос.
Редферн, великан-негр родом из Пиккенса, штат Алабама, был дипломированным специалистом-нефтяником, и в дипломе у него, по его словам, так и стояло: "Большой Уильям". Он говорил, что его собирались взять на пробу в профессиональную футбольную команду, но из этого ничего не вышло - дядя Джим не захотел, чтоб он играл. "Какой дядя Джим?" - спрашивали его. "Дядя Джим Кроу,- отвечал он.- Какой еще может быть дядя Джим, если не Джим Кроу? Но дядя Джим не дурак и не помешал Большому Уильяму попробовать свои силы в армии - так он мне все и возместил". Большой Уильям не был ни вежливым, ни скромным и не обращал никакого внимания, слушает ли кто-нибудь его похвальбу. Был он чернее черного: его семья избежала "интеграции", говорил он. Походка у него была чуть раскачивающаяся, грациозно-чувственная, и он всегда ходил с тросточкой из слоновой кости, словно желая подчеркнуть свою грацию и цвет кожи. Не считаясь с чужим покоем и чужим вкусом, он всегда включал на полную мощность свой проигрыватель, из которого лилась будоражащая, чувственная музыка. И еще он без конца говорил о женщинах, хвастаясь своими успехами. Не все его качества были привлекательны, и в семинарии постоянно шли споры, действительно ли Большой Уильям так уж хорош. Некоторым молодым офицерам он нравился (как и его музыка), они благоговели перед его гигантской фигурой и воспринимали Большого Уильяма так, как воспринимал себя он сам. Он, говорили иногда самые молодые, лучший офицер-негр, какого им приходилось видеть. Другие, постарше, в частности Ролстон, говорили, что он такое же трепло, как и все прочие, только треплется громче других. "Вы их просто не знаете,- говорил Ролстон,- а я навидался их, и он вовсе не самый лучший, потому что лучших среди них вообще нет; возможно даже, он худший, так как худшие среди них попадаются". (Полковник, которому однажды в жаркий вечер пришлось решать эту проблему, так как к нему явилась неофициальная делегация офицеров жаловаться на проигрыватель Большого Уильяма - только на его проигрыватель,- сказал следующее: "Конечно, он трепло, на этот счет никаких сомнений: я никогда не встречал офицера, который хвастал бы больше его. Хвастовство не лучшее качество офицера, и мне не хотелось бы, чтобы и вы все начали хвастать. И тем не менее он дьявольски хороший офицер. Любопытно, что сам он этого еще не знает. Слишком занят, разыгрывая из себя хорошего офицера. Вероятно, так получилось случайно. Он не самый лучший их моих офицеров - отнюдь, но советник, пожалуй, лучший. Вьетнамцы на него прямо молятся. Им все в нем нравится. Даже его музыка"). Так оно и было: вьетнамцев поражал его рост, цвет кожи, могучий бас, а он в их присутствии расцветал, чувствуя себя в своей стихии. Каждое утро он здоровался с ними: "Доброе утро, вьетнамцы!" - а они нараспев, как он их учил, отвечали: "Доброе утро, Большой Уильям!" "Как дела?" - спрашивал он. "Дела идут хорошо!" - отвечали вьетнамцы тоненькими, как у школьников, голосами.
- Ко мне продолжают поступать сведения, что рейнджеры [Рейнджеры - солдаты диверсионно-десантной группы] теряют свою свирепость и цивилизуются прямо на глазах. Это правда, Большой Уильям?- спросил полковник.
Большой Уильям покачал головой, как человек, которого оклеветали.
- Извините, господин полковник, сэр, но это брехня. Большой Уильям не спускает глаз с рейнджеров и может гарантировать, что они злы, как прежде. Да если я замечу у них джентльменские замашки, я с них шкуру спущу в вашу честь. Но Большой Уильям передаст им ваши слова, сэр.
- Хорошо, капитан Редферн. Берите вертолеты и готовьте десант.
На лице Андерсона отразилось явное разочарование. Бопре перевел взгляд на Большого Уильяма: по его лицу ясно было, что рейнджеры и их советник получили лишь то, чего заслуживали.
- Взбодрите их, Большой Уильям. Пусть зададут жару,- сказал полковник.
Негр кивнул.
- Завтра они полетят, господин полковник. Нам и вертолеты не нужны, это нас только задержит. Вы хотите, чтобы мы задали жару,- хорошо. Зададим.
До приезда Большого Уильяма рейнджеры всегда озадачивали американцев. Предполагалось, что это отборные части вроде морской пехоты или авиадесантников. Но это было не так. Толку от них было мало, и они постоянно обманывали ожидания американцев. (Донован, начальник разведки, говорил, что слово "отборный" надо понимать в другом смысле: подчиняясь требованию высокопоставленных чинуш, офицеры передавали в эти части не самых лучших своих людей и не самых худших, а просто, как считал Донован, самых недисциплинированных и своевольных).
- Капитан Бопре!- сказал полковник.- Вы будете подходить к этому пункту во главе колонны пехотинцев с востока. Старайтесь сдерживать вашего "тигра" и не давайте ему слишком часто завязывать бой с противником по дороге.
Эти слова вызвали новый взрыв смеха, так как все были очень довольны, что Бопре - раздражительного и нередко злого на язык человека - прикрепили к Дангу, который считался худшим из вьетнамских офицеров.
После того как полковник кончил отдавать распоряжения и изобразил в лицах свои беседы в Сайгоне - достаточно смешно, но в границах приличия ("Ну как там ваши войска в дельте, Гаррисон?" - "Отлично, сэр".- "Это хорошо, Гаррисон, продолжайте в том же духе!"),- они начали расходиться.
Андерсон задержался, стал жаловаться: вот беда, завтра весь день придется шагать пешком. "Дурак,- подумал Бопре,- пешком же безопасней, чем по воздуху. До чего же ты еще молод, черт побери".
- Большому Уильяму повезло,- сказал Андерсон.
- Да,- сказал Бопре.- Завтра, видно, будет жарко.- И подумал: "Повезло везучему негру".
- Капитан Бопре!- позвал его полковник.
Бопре вернулся в комнату для совещаний. Кроме полковника, там уже никого не было.
- По моим расчетам, вы завтра сбросите восемь фунтов. Он внимательно оглядел Бопре.- А может быть, и девять. Нет, все-таки восемь. Пять из-за жары и три из-за Данга.
Бопре шагнул к двери.
- Вы, я вижу, хотите остаться при нем,- сказал полковник.- А ведь все от вас зависит. Перевод легко устроить.
- Я останусь при нем,- сказал Бопре.
Он ответил, почти не думая, машинально. Одним из самых заветных его желаний было расстаться с Дангом. Но он знал, как обрадовался бы Данг, если бы он перевелся в другую часть, уступив место какому-нибудь новичку.
Бопре вышел и побрел в бар - выпить перед сном. В баре никого не было. Андерсон уже ушел спать. Перед операциями Андерсон никогда не пил больше двух банок пива и обязательно высыпался.
Бопре вырвал из книжечки талоны на две рюмки коньяку и налил себе сам.- Здесь офицерам доверяли, поскольку дело касалось спиртных напитков, предназначенных и для других офицеров.
Он мысленно ругал Вьетнам, Мито и вынужденное безбрачие тех, кто не давал обета безбрачия. Семинарии годятся для священников, которым ничего другого и не нужно. И более подходящего места для семинарии, чем Мито, не найти, ибо здесь нет соблазнов. Но беда в том, что это место не подходит для взрослых здоровых мужчин, особенно для тех, кто завтра будет рисковать жизнью.
Он вспомнил, как приехал в Мито: ему так хотелось, чтобы его чистая, накрахмаленная форма сохранила всю свою первозданную свежесть, но пришлось слишком долго ждать в Таншоннят на солнцепеке, и он приехал на место весь измятый. Его встретил молодой и очень красивый майор.
- Добро пожаловать в Мито, капитан Бупрат.
- Бопре. Спасибо. Рад, что наконец добрался.
- Прошу прощения. В любом случае - добро пожаловать. Здесь не так уж плохо.
- На первый взгляд этого не скажешь.
- Близко от Сайгона, в этом все дело.
- А как тут с развлечениями? Я имею в виду - в смысле злачных мест?
- Не имеется. Забыли изобрести.
- Местные дамы?
- Ни-ни! Ни мне, ни вам и вообще никому из длинноносых. Приказ полковника. Он принимает это близко к сердцу, говорит, что подобные вещи вредят нашим взаимоотношениям с друзьями. Если вам уж очень приспичит, поезжайте в Сайгон. Большой город. Два миллиона жителей. Множество дам. Там вы меньше рискуете наскочить на родственницу вашего вьетнамского коллеги. Полковнику это не понравилось бы. Как я уже сказал, добро пожаловать.
- Значит, полковник - ханжа?
- Здесь нет ханжей, капитан. Мы все делаем то, что должны делать, хотя нам не всегда это нравится, из чего следует, что делаем мы это лучше, чем намеревались. А полковник у нас лучше других. И не заставляет нас белить ящики из-под угля, как вы, по-видимому, ожидали.
Бопре выпил вторую рюмку коньяку, размышляя, побриться ли ему сейчас, перед сном, или попытаться проделать это утром, или же вовсе не бриться. К такого рода решениям он относился весьма серьезно, потому что тут все зависело только от него одного, а возможность проявлять свою волю представлялась ему теперь очень редко. Если побриться сейчас, то утром он будет хоть и не чисто, но все же выбрит; правда, в тропиках борода растет быстро, но, когда они выступят, это уже будет извинительно. Правильнее всего было бы побриться утром, но можно не успеть. Если же вовсе не бриться, то утром, при встрече с Дангом, у него будет неряшливый вид, а за день щетина отрастет еще сильнее. Ему не хотелось бриться, но не хотелось и показываться Дангу заросшим. Бопре выругал армейские порядки, которые всегда одерживают верх, даже здесь, где война и смерть и где можно было бы не думать обо всей этой ерунде, а ты вдруг обнаруживаешь, что эта ерунда вошла в твою плоть и кровь и ты сам ей подчиняешься, хотя никто тебя не заставляет. Он пошел к себе и достал бритву.
Была полночь. В половине третьего вставать. Те, кто полетит на вертолетах, обладают единственным, но завидным преимуществом: они могут спать до четырех,- а вот пехоте приходится вставать раньше. Донован, начальник разведки, утверждал, что вьетконговцы держат в семинарии своих агентов только для того, чтобы знать, когда там встают. И если подъем будет раньше двух тридцати, то, утверждал Донован, об этом немедленно узнают в самых отдаленных уголках сектора. Это показалось логичным (кто-то спросил Донована, знает ли он этих агентов, а он ответил, что не знает; тогда кто-то предложил уволить весь обслуживающий персонал и набрать новый, но Донован сказал, что это ничего не даст, так как и среди нового состава окажутся все те же, прежние), но потом кто-то из новичков-лейтенантов предложил перехитрить вьетконговцев и вставать в дни операции как можно раньше. Полковник сказал, что он обдумает это предложение, и, слава богу, про него забыли. Значит, если повезет, подумал Бопре, он поспит два часа. Он поглядел на кровать Андерсона, увидел, что тот спит, и попробовал уснуть сам.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА ВТОРАЯ
Бопре не сразу очнулся от тревожного забытья; на мгновение он даже пожалел, что вообще лег. После вчерашнего виски и коньяка у него пересохло во рту. Он разозлился, заметив, сколько москитов проникло под сетку, и вспомнил, что ночью они его будили не то раз, не то два. Эта чертова сетка не пропускает воздуха, но нисколько не сдерживает москитов. Теперь они устроились в верхних углах сетки над его головой, он слышал их жужжание. Облюбовав одного, он протянул руку и раздавил его. Брызнула кровь - его, Бопре, кровь. Москиты были крупные и высасывали много крови, но зато они отличались медлительностью и их легко было убивать.
Бопре поплелся в огромную ванную комнату (уже много раз, не будучи католиком, он, однако, задумывался над тем, не смущала ли будущих священников необходимость совершать свой туалет на глазах у других; почему-то он считал, что священники должны быть застенчивыми). Поборов отвращение, он заставил себя выпить стакан воды. Над длинным рядом умывальных раковин тянулась огромная надпись: "Медицинская служба армии США приветствует вас в Мито. Нашими стараниями вы можете эту воду пить".
Стараниями специалиста по очистке вода приобрела отвратительный вкус. Армия хотела сберечь его, Бопре, почки и печень. Он выпил воды и выругал вслух свои почки.
За завтраком он выпил два стакана томатного сока и с вожделением подумал о третьем, но усилием воли сдержал себя. Вот если бы он не налакался этой проклятой воды, можно было бы выпить еще стакан томатного сока.
Яичница остыла и затвердела, кофе напоминал цветом шотландское виски, а вкусом - воду, в которой выкупался специалист по очистке. Бопре все же попытался есть и с трудом одолел половину яичницы. Тут в столовую вошел заместитель главного советника при командире дивизии. Обходя столики, он тихо говорил: "Осталось пять минут. Чарли [Чарли - принятое у американцев прозвище южновьетнамских партизан (от кодового обозначения "Вьетконга" по первым буквам "Виктор Чарли")] ждет. Заканчивайте и выходите. Побыстрее, Чарли ждать не будет. Побыстрее". Когда Бопре разделался с яичницей, к нему подсел с чашкой кофе Андерсон. Пока они разговаривали, Бопре посмотрел на огромный кувшин с томатным соком и налил себе еще стакан - с вызывающим видом, на случай, если Андерсон скажет что-нибудь о жаре. Это была первая за сегодняшний день победа его настоящего врага - жары. Когда он выходил из столовой, рубашка его под мышками уже пропиталась потом. А долгий день еще впереди.
Сначала он презирал жару, но теперь научился бояться ее. Он завидовал молодым офицерам, которые, казалось, почти не потели, и завидовал своим сверстникам, которые, казалось, примирились с жарой и теперь спокойно выдерживали самые худшие часы трудного дня, а потом говорили: "Да, было жарко", как будто этим все и исчерпывалось.
Когда он впервые приехал во Вьетнам, он почувствовал, что жара - враг всех белых, но она скоро стала его личным врагом, потому что он не умел ей противостоять. Другим еще как-то удавалось держаться.
Первый день его пребывания в Мито совпал с пасхальным воскресеньем, на которое была назначена крупная операция. Термометр показывал 45 градусов (он запомнил, какая была температура в этот день,- редкий случай, так как, подобно остальным обитателям Мито, он скоро привык считать погоду просто жаркой, а точной температурой никто не интересовался: вчера было жарко, сегодня жарко, завтра будет жарко. Об этом вообще не думали). Тогда было сухо, а марш оказался очень долгим. Четверых американцев свалил тепловой удар. Он мучился на командном пункте, но не столько от жары, сколько от мысли о жаре: в его воображении Вьетнам превращался в 365 таких вот дней. Когда привезли второго американца, молодого лейтенанта, он почувствовал головокружение и чуть не грохнулся в обморок. Это позабавило тогдашнего главного советника, который тут же предложил ему отправиться в часть на место лейтенанта. Потом, когда Бопре уже собирал свое снаряжение, полковник остановил его и сказал, чтобы он не принимал все так близко к сердцу: просто сегодня тяжелый день. Позже он узнал, что и вьетнамцы считали этот день тяжелым: к вечеру, помогая отвозить в часть питьевую воду, он увидел, что вьетнамцы лежат на земле без сознания, словно одурманенные. Шестерых он погрузил в вертолет и увез с собой. Перетаскивая почти безжизненные тела вьетнамцев, он почувствовал себя уверенней, однако теперь он знал, что в войне у него будет два врага.
Бопре и Андерсон вышли из семинарии к джипу, который должен был отвезти их на вьетнамскую базу на другом конце городка. За рулем сидел молодой капрал - из службы связи, решил Бопре. Едва они тронулись с места, как капрал повернулся к Андерсону и спросил:
- Знаете, какой сегодня день?
Андерсон ответил, что не знает.
- Двадцать первый,- сообщил капрал.- Всего-навсего три недели. Ровно двадцать один день осталось мне служить в этой стране. А там - домой!
Андерсон кивнул.
- А можно вас спросить, лейтенант? Сколько дней вам осталось?
Андерсон улыбнулся - почти смущенно, подумал Бопре.
- Сто восемьдесят два.
- Сто восемьдесят два? Это хорошо,- сказал капрал.- Теперь дело пойдет на убыль. Сто восемьдесят три уже позади, вот что важно, а теперь пошло на убыль. Я помню мой сто восемьдесят третий день!..- Он повернулся к Бопре и спросил:- А сколько вам, капитан? Извините, что интересуюсь.
- Не знаю,- ответил Бопре.
- То есть как это не знаете?- удивился капрал.- Должны знать! Все знают. Даже полковник. Так сколько же?
- Сто одиннадцать,- сказал Бопре.
- А вы уверены, капитан? В таких делах надо быть точным. Свой-то срок я подсчитал. Пятьсот четыре часа. Тридцать две тысячи двести сорок минут. Здесь точность нужна.
Бопре сказал, что он уверен. Капрал спросил, когда он прибыл во Вьетнам. Бопре ответил.
- Нет, сэр,- сказал капрал.- Тогда это неверно. Не может быть сто одиннадцать. Какого числа вы прибыли, сэр?
Бопре назвал число.
- Нет, сэр,- сказал капрал,- вам куда меньше осталось. Ну, пятьдесят девять, самое большее - шестьдесят.
- Верно, шестьдесят,- согласился Бопре.
- Вы бы точнее считали, капитан,- посоветовал капрал.- Тут нельзя ошибаться, не то вас оставят на второй срок. Разве им можно доверять? Надо считать самому. Уж они-то вам не помогут, особенно в таком деле. Хорошо еще, что я с вами сегодня еду, а то вы бы так и думали, что вам еще четыре месяца осталось. Шестьдесят дней. Одна тысяча четыреста сорок.
- Чего?- спросил Бопре.
- Часов,- ответил капрал.
- Спасибо,- сказал Бопре.
Наступило молчание. Небо еще не посветлело, поэтому фары были включены на ближний свет. Но в воздухе уже начинала чувствоваться духота. Бопре спросил Андерсона:
- Сколько у нас сегодня деревень?
- Три,- ответил лейтенант.- Апвиньлонг, Аптхань и Апбиньзыонг.
- Ап - что?- переспросил Бопре.
Андерсон повторил названия.
- Мы ведь там уже были.
- В которой?- спросил Андерсон.
- Во всех,- сказал Бопре.
- Нет,- ответил Андерсон.- Ни в одной из них мы еще не были. Это все новые объекты.
Помолчав, Бопре спросил:
- Знаете, в чем беда этой страны, Андерсон? Слишком много деревень. Слишком много этих проклятых деревень - сотни, даже тысячи, и все похожи одна на другую. И слишком много в них людей. Если бы здесь не было такого множества удаленных друг от друга деревень, не было бы и войны и не надо нам было бы без конца ходить пешком. Вытащите-ка всех этих людей из деревень, сгоните их в один большой город - и не будет ни войны, ни маршей. А потом соберите ребят, которые служат в нашем Управлении экономической помощи и огребают по пятнадцать тысяч в год плюс деньжата на служебные расходы, и заставьте их изобрести большую машину, чтобы она сажала рис, и поливала рис, и пинала буйволов в зад, а потом собирала рис и посылала его в тот единственный город - пусть люди там делят его и едят. Вот тогда не будет войны и не будет американцев. Наша обязанность - дать им такие машины.
Андерсон засмеялся.
- Чертова страна,- сказал Бопре.- Сколько деревень, и все называются одинаково: Апвиньтханьбиньдиньлонгзыонг.
Они въехали в городок. Ранние прохожие уже шли на рынок - люди, чей мир, в какой бы стране они ни жили, был не похож на мир Бопре. Они ложились спать, когда он только входил в бар, и он всегда чувствовал себя неловко, если был еще на ногах, когда они просыпались,- но не здесь, не в этой стране.
- Знаете, что скажет этот сукин сын Данг, когда увидит нас?- спросил Бопре.
Андерсон засмеялся.
- Он скажет: "А-а, доброе утро, мои друзья, американские воины! С добрым утром!"
Андерсон расхохотался: Бопре был прав.
Джип подъехал к длинной колонне грузовиков, в которых уже ждали вьетнамские солдаты. Солдат посадили спиной к движению - так что в случае нападения они не могли бы сразу открыть ответный огонь.
Данг радостно им улыбнулся. Похлопал Бопре по плечу и сказал:
- Мои самые любимые американские воины! А-а, доброе утро! А-а, доброе утро, мой друг капитан Бопре и мой молодой друг лейтенант Андерсон!
- Капитан Данг, мой самый любимый вьетнамский воин!- сказал Бопре, и ему послышалось, что Андерсон подавил смешок.
- Я вижу, у капитана Бопре сегодня хорошее настроение, как и у его друга капитана Данга. Сегодня мы отправляемся на охоту за коммунистами Вьетконга. Я думаю, все пойдет очень хорошо и мы убьем много коммунистов Вьетконга.
Бопре дипломатично кивнул и справился о здоровье миссис Данг и маленьких Дангов.
- Сегодня, капитан Данг, коммунисты Вьетконга получат хорошего пинка в задницу,- сказал Андерсон.
- А-а, американцы!- сказал Данг.- Энергичные люди. Воины.
Бопре, лениво переговариваясь с Дангом, подумал о том, что Данга он получил, можно сказать, в награду, он словно выиграл его в лотерее на вторую неделю своего пребывания во Вьетнаме, когда у него еще был какой-то запас энергии и честолюбия. Его тогда временно назначили в другой батальон, предупредив, что батальонный командир слаб, но что он, Бопре, должен вести себя сдержанно и тактично и не ставить союзника в глупое положение. Это была первая лекция, которую ему пришлось выслушать, и он машинально, почти не слушая, кивал головой, зная заранее, что ему скажут, зная, что ему придется к этому приспосабливаться,- он был старый служака.
Спустя десять дней этот батальон был послан на задание и опоздал на сорок минут к месту соединения с другими частями, одна из которых, действовавшая на восточном фланге, попала в засаду. В это время батальон Бопре делал очередной привал (эти бесчисленные привалы прерывали марш, как рекламные сообщения - радиопрограмму). Когда Бопре услышал по радио о засаде, солдаты все еще отдыхали. Он подождал немного, затем сказал командиру, что следовало бы сняться с привала. Командир кивнул, согласился, но никаких распоряжений не отдал. Через несколько минут сцена повторилась, голос Бопре звучал теперь настойчивее: ведь там сражались свои (тогда он еще считал их своими),- и командир снова с ним согласился и снова не отдал никаких распоряжений. Наконец, отмерив по своим армейским часам ровно две минуты, Бопре опять подошел к командиру, вне себя от злости (он ко многому был равнодушен, но не к тому, чтобы бросать своих без поддержки под обстрелом противника), и начал кричать: "Черт возьми, расшевелите же их! Что у них, зады приросли? Дайте им пинка! Если не можете сами, я это сделаю! Дьявол вас побери, люди гибнут где-то на проклятых рисовых полях, а вы даже не шевелитесь! Ваши же солдаты гибнут. Да что вы за люди, черт побери!"
Это была удивительная сцена, доставившая вьетнамским солдатам огромное удовольствие. Усмехаясь и хихикая, они быстро снялись с привала и скорым шагом двинулись вперед, но было уже поздно. Этот случай вызвал страшный скандал, и у Бопре могли быть большие неприятности, но его предшественники, к счастью для него, неоднократно подавали на этого офицера длинные рапорты с аналогичными жалобами, и полковник уперся, а вьетнамцы, само собой, уступили (командир дивизии относился к командиру попавшего в засаду батальона более благосклонно, чем к офицеру, с которым сцепился Бопре) и произвели соответствующие перемещения. Американцы были чрезвычайно довольны и говорили, что началась новая эра, а полковник отвел Бопре в сторону и сказал, что это большая победа, но что ему следует переменить тактику и во что бы то ни стало наладить хорошие отношения со своим новым коллегой - второго перевода не будет, а потому он должен воздержаться от подобных выходок и не кричать о пинках в зад, даже шепотом не произносить таких слов (говоря это, полковник улыбнулся). Надо уживаться с людьми, проявлять гибкость, слушать, давать советы и вести себя корректно; он одержал большую победу, им гордятся, и в другую часть перевели не его, а вьетнамца, но второй раз этого не произойдет. Бопре слушал, кивал, удивлялся и немножко гордился собой. После этого он получил Данга. Неделю спустя его спросили: "Ну как Данг?" Он ответил (это было единственное, что он сказал за целый месяц): "Что ж, этот говорит по-английски лучше, чем большинство из них". Это была его первая и последняя похвала в адрес Данга.
Пока он беседовал с Дангом, к ним подошел молодой вьетнамский лейтенант (коллега Андерсона) и заговорил с Андерсоном. Оба держались непринужденно. Сначала они разговаривали по-английски, а потом, отойдя в сторону, перешли на вьетнамский. Самые обыкновенные молодые ребята. И вдруг Бопре позавидовал им - позавидовал тому, что они разговаривают по-вьетнамски, и тому, что они разговаривают по-английски, и тому, что они друзья, и тому, что они молоды.
Он повернулся к Дангу, и они продолжали разговор: каждый сообщил другому, что день будет жаркий, очень жаркий.
Потом они с Дангом сели в джип и подъехали к первому грузовику, и вот уже колонна выбралась на шоссе, с джипом и американцами во главе. Если шоссе заминировано, подорвутся на мине они.
По обеим сторонам шоссе пробуждалась жизнь, здесь была цивилизация: создавались импровизированные рынки и дети продавали ананасы, нарезанные на куски.
У моста колонна остановилась, и к машине от одного маленького прилавка хлынули дети - прямо сотни детей протягивали ананасы. Солдаты начали торговаться, смеялись и что-то кричали детям - один предлагал мальчику пять пиастров за ананас и его сестру в придачу. Они накупили ананасов, и Бопре с жадностью поглядел на толстый и сочный кусок, прикидывая, сколько он стоит на американские деньги - цента два, но сдержался, хотя ни на секунду не забывал о жаре.
Потом они миновали мост и поехали по проселку, но вскоре остановились и слезли с грузовиков: теперь даже эта узенькая полоска цивилизации - цивилизации голоштанных мальчишек, продающих ананасы,- и та осталась позади. Они были в сердце страны.
Дальше они двинулись гуськом - маленькие люди в больших касках, с большими автоматами. А странно: когда Бопре в первый раз увидел их в бою с вертолета, он был поражен, какими большими они казались. Он ожидал увидеть миниатюрных солдатиков, вооруженных бойскаутов, но сверху их до последней минуты было трудно отличить от американских советников - только походка была иная, так как вьетнамцы, конечно, не видели такого количества "вестернов", как американцы. Но на земле они снова выглядели маленькими человечками в касках, превращавших в карикатуру и их самих, и войну,- не солдаты и не бойскауты; из-за касок все казалось почему-то несерьезным. Недаром иногда полковник по рассеянности называл вьетнамцев малышами.
Батальон Бопре был сформирован из солдат одиннадцатого полка - собственно говоря, это был не полный батальон, а штабная рота, которой придали еще одну роту, всего сто пятьдесят человек.
Бопре видел, как Данг разговаривал с вьетнамским лейтенантом, потом Данг что-то сказал солдатам, и они зашагали весело и бодро. Бопре шел позади Данга, как всегда полный утренней решимости вести себя правильно и действовать в тесном контакте с ним - к полудню эта решимость обычно без следа исчезала.
- Как вы думаете, капитан, войдем мы сегодня в соприкосновение с противником?- спросил он.
- А-а, с противником!- сказал Данг.- Да.
Несколько минут они шли рядом, и Бопре тщетно пытался начать какой-нибудь разговор; и прежде иногда Данг прекрасно говорил по-английски, а иногда все происходило так, как на этот раз,- Данг изолировал его от солдат. Обойтись же без посредничества Данга он не мог, так как не знал языка. И он чувствовал, что Данга это устраивает, что Данг очень ревниво относится к возможности его непосредственного контакта с солдатами. В результате, разговаривая с одним Дангом и встречая только улыбки сотни маленьких людей, Бопре ощущал себя не столько советником, сколько туристом в чужой стране. Да, он турист, просто у него больше гидов, чем обычно полагается туристам. Он видел страну, но по-настоящему не понимал ее. Вначале это ощущение беспокоило Бопре, его тревожило опасение, не один ли он здесь посторонний. Но потом он заметил, что его американские коллеги почти все ходят с фотоаппаратами - простенькими японскими камерами - и с их помощью запечатлевают буддийские храмы, убитых вьетконговцев и вьетнамских друзей, а потом позируют приятелю рядом с какой-нибудь чернозубой старухой.
Бопре посмотрел на солдат - они делали все не так с самого утра, когда сели в грузовики таким образом, что не смогли бы стрелять, если бы попали в засаду, и он не сомневался, что оружие у них не чищено (Бопре гордился тем, что он не формалист, но считал, что в боевой обстановке оружие должно содержаться в порядке). И они шумят на марше, как всегда. Он не разделял нежности, которую многие его коллеги питали к вьетнамским солдатам. Американцы, по его мнению, для очистки совести вечно разглагольствуют о том, как хороши вьетнамцы и как прекрасно они ведут себя в бою, несмотря на посредственных офицеров. Но Бопре они не нравились: он считал, что они слишком шумят на марше, не заботятся об оружии и, хуже того, не заботятся о своих товарищах. (Впрочем, и товарищи их не стали бы заботиться о них, это взаимно).
Своим собственным поведением он был доволен: серьезных стычек с Дангом у него не возникало (так, небольшие споры) и он ни разу не сорвался в присутствии Данга. Он давно уже научился не требовать многого и, требуя мало, получал еще меньше. Он не давал излишних советов, избегая ставить Данга в неловкое положение, поскольку тот не догадался о чем-то раньше, и не желая сам попадать в неловкое положение из-за того, что его совету не последовали.
Они шли уже около получаса, когда Бопре решил все-таки дать совет. Он всегда был очень осторожен: когда у него возникала какая-нибудь мысль, он не торопился ее высказать, а сперва обдумывал, взвешивал и решал, стоит ли вмешаться. Солдаты шли скученно с самого начала, но он ничего не говорил, не желая начинать день с самого элементарного, самого обидного замечания, не желая растрачивать тот маленький авторитет, которым еще располагал. Бог знает, что еще может случиться в течение дня, не было смысла сразу же выскакивать со своим американским всезнайством. Но они шли скученно, а налогоплательщики Соединенных Штатов наняли его, Бопре, именно для того, чтобы он не давал им скучиваться,- за это ему платят жалованье, пусть даже довольно скромное. "Одной гранаты,- повторял в Корее его первый сержант, немолодой и флегматичный человек по фамилии Шаусс,- одной гранаты хватит, чтобы изрешетить пятьдесят задниц, если вы будете скучиваться, и эту паршивую гранату брошу я, сержант Шаусс".
Бопре остановился и повернул назад, чтобы поговорить с Дангом. Капитан улыбнулся - он всегда улыбался, даже когда Бопре был уверен, что он взбешен. Бопре поймал себя на том, что он и сам улыбается. Наверно, Данг думает, что американцы всегда улыбаются - даже когда им плюют в морду, даже когда они требуют невозможного.
- Дай ви...- начал он.
Вьетнамское слово, означающее "капитан",- одно из немногих вьетнамских слов, которые знал Бопре. Поэтому он пользовался им очень часто, словно заклятием. Это слово как бы означало, что он, Бопре, любит его, Данга, страну и народ. В этом слове воплощалась его неспособность постичь эту страну. Одной из причин неприязни Бопре к Андерсону, помимо его молодости, его рвения и уверенности, что через два года он, Андерсон, станет капитаном, а вскоре и майором, было то обстоятельство, что лейтенант хорошо говорил по-вьетнамски, знал (во всяком случае, так он утверждал), что говорят и что думают вьетнамцы, проводил много времени в их обществе и был способен смеяться вместе с ними, даже с солдатами.
- Дай ви,- начал Бопре и, заплатив дань уважения международному братству, перешел на свой родной язык. Теперь он говорил почти извиняющимся тоном, словно это по его, Бопре, вине солдаты шли скученно.- Солдаты идут слишком близко друг к другу.
Он улыбнулся. Капитан улыбнулся.
- Да,- сказал Данг.
- Может быть, им лучше немного рассредоточиться?- сказал Бопре.- Они просто напрашиваются на засаду.
Капитан кивнул и сказал что-то по-вьетнамски. Команду передали по колонне.
"На этом все и кончится",- подумал Бопре.
Сначала как будто что-то началось и в колонне наметилось какое-то перемещение, но через несколько минут солдаты опять скучились - не хватало только сержанта, Шаусса и его одной гранаты.
Бопре прошел в голову колонны. Ему не нравилось соседство Данга, тем более что тот шел за радистом, а вьетконговцы часто давали первый залп именно туда, рассчитывая покончить разом с офицером и с радистом. Какой смысл подставлять под этот залп еще и американца? Кроме того, ему нравилось идти в голове колонны.
К восьми часам стало жарко. Он правильно оценил своего врага. Когда он только-только приехал во Вьетнам, он решил придерживаться строгого режима. Одна фляга воды в сутки. Первый глоток после одиннадцати утра. К трем часам, то есть к середине дня, когда солнце в зените, во фляге должно оставаться больше половины. До полудня - никаких местных фруктов. Он очень боялся жары, и этот страх заставлял его быть решительным. Режим был очень строг. Но через две недели он начал мошенничать. Человек остается человеком, даже если он боится. Через две недели войны он воевал уже не столько с противником, сколько с солнцем: шагая под палящими лучами по высохшим рисовым полям, он думал не о том, где сейчас противник, а о том, сумеет ли он пересилить жажду и когда можно будет еще попить. Сначала он обманывал себя тем, что дисциплина дается не сразу, что требуется время, надо пожить еще немного в этой стране, чтобы сладить с жарой, а когда он похудеет и закалится, дела у него пойдут лучше. Но чуда не произошло. Он был слишком стар для этой страны и не мог приспособиться. Он не переменился и не стал стройнее, а остался таким же, иногда даже прибавляя в весе. В очень тяжелые дни, когда операции длились долго и сильно жгло солнце, его форма темнела от пота и он терял фунтов десять, но между операциями всегда бывало два-три дня перерыва, и он возвращал все потерянное, потому что пил - за завтраком, за обедом, за ужином и в баре. (Полковник, который знал, что происходит, когда человек теряет выдержку, был тактичен, говорил, что всему виной апельсиновый и томатный сок, и не возражал против посещений бара, а только рекомендовал обходиться без завтрака). Когда он понял, что проигрывает свою войну, он начал мошенничать: прикладывался к фляге сначала за несколько минут до положенного времени, а затем все раньше и раньше, рассчитывая, что отыщутся фрукты, что найдется какой-нибудь благодетель, поможет счастливый случай или у щедрого пилота на вертолете окажется полная фляга холодной воды. До сих пор ему везло. Только один раз он по-настоящему попал в трудное положение, но и тогда в последнюю минуту, когда он уже не мог больше терпеть и решил пойти к Андерсону попросить глоток воды, солдаты обнаружили кокосовую рощу. Потом он сидел под пальмой и пил сладкий сок, который тек у него по лицу, по шее и, главное, по рубашке, а Андерсон стоял и злился, потому что отряд не двигался. Бопре же в тот день был снисходителен к вьетнамцам.
Вместе с Бопре во главе колонны шли двое вьетнамцев. Одного из них, широкоплечего коротышку с усами, он узнал: это был уроженец Нунга, которого Андерсон считал лучшим сержантом в роте. Второй, худенький, был просто одним из сотни ему подобных. Они шли втроем впереди колонны, все время сменяя друг друга; когда шедшему впереди что-нибудь казалось подозрительным, он тотчас занимал позицию, удобную для ведения огня, а другой сходил с главной тропы и шел вдоль фланга колонны. Они менялись, не говоря друг другу ни слова: вьетнамцы не знали английского, а Бопре - вьетнамского. Но здесь помогала простая военная выучка - разговаривать не было нужды, все делалось инстинктивно. Некоторое время спустя их догнал молодой вьетнамский лейтенант; он кивнул Бопре и несколько минут принимал участие в их балете, а затем, словно по сигналу, они с Бопре убавили шаг.
- Капитан, кажется, обеспокоен тем, как идут наши солдаты,- сказал лейтенант.
- А вас это не беспокоит?- спросил Бопре.
- Они идут очень близко друг к другу, это верно.
- Что же вы ничего не предпримете?- сказал Бопре.
- Разве капитан видит на моей гимнастерке генеральские звезды?- спросил лейтенант.
- Это ваши люди,- сказал Бопре.- Письма их вдовам буду писать не я.
- У нас во Вьетнаме эта роскошь - письма - не принята. Это вы пишете письма.
- Это ваши люди,- повторил Бопре.
- Как и вьетконговцы,- сказал Тыонг.
Бопре хотел было ответить ему, что вьетконговцы не ходят кучно и не нуждаются в советниках, но сдержался. Лейтенант, словно по сигналу, отошел от него и занял свое место в колонне. Бопре с досадой почувствовал, что хочет пить; он уже готов был приложиться к фляге, но потом решил перетерпеть и дождаться, пока отряд не выйдет из первой деревни. Они должны войти в первую деревню очень скоро, через полчаса или раньше, если будут продвигаться нормально и не слишком часто останавливаться для отдыха,- вот потом он попьет. Он надеялся, что к полудню, когда они выйдут из второй деревни, его фляга все еще будет наполовину с водой.
***
Бопре не сразу очнулся от тревожного забытья; на мгновение он даже пожалел, что вообще лег. После вчерашнего виски и коньяка у него пересохло во рту. Он разозлился, заметив, сколько москитов проникло под сетку, и вспомнил, что ночью они его будили не то раз, не то два. Эта чертова сетка не пропускает воздуха, но нисколько не сдерживает москитов. Теперь они устроились в верхних углах сетки над его головой, он слышал их жужжание. Облюбовав одного, он протянул руку и раздавил его. Брызнула кровь - его, Бопре, кровь. Москиты были крупные и высасывали много крови, но зато они отличались медлительностью и их легко было убивать.
Бопре поплелся в огромную ванную комнату (уже много раз, не будучи католиком, он, однако, задумывался над тем, не смущала ли будущих священников необходимость совершать свой туалет на глазах у других; почему-то он считал, что священники должны быть застенчивыми). Поборов отвращение, он заставил себя выпить стакан воды. Над длинным рядом умывальных раковин тянулась огромная надпись: "Медицинская служба армии США приветствует вас в Мито. Нашими стараниями вы можете эту воду пить".
Стараниями специалиста по очистке вода приобрела отвратительный вкус. Армия хотела сберечь его, Бопре, почки и печень. Он выпил воды и выругал вслух свои почки.
За завтраком он выпил два стакана томатного сока и с вожделением подумал о третьем, но усилием воли сдержал себя. Вот если бы он не налакался этой проклятой воды, можно было бы выпить еще стакан томатного сока.
Яичница остыла и затвердела, кофе напоминал цветом шотландское виски, а вкусом - воду, в которой выкупался специалист по очистке. Бопре все же попытался есть и с трудом одолел половину яичницы. Тут в столовую вошел заместитель главного советника при командире дивизии. Обходя столики, он тихо говорил: "Осталось пять минут. Чарли [Чарли - принятое у американцев прозвище южновьетнамских партизан (от кодового обозначения "Вьетконга" по первым буквам "Виктор Чарли")] ждет. Заканчивайте и выходите. Побыстрее, Чарли ждать не будет. Побыстрее". Когда Бопре разделался с яичницей, к нему подсел с чашкой кофе Андерсон. Пока они разговаривали, Бопре посмотрел на огромный кувшин с томатным соком и налил себе еще стакан - с вызывающим видом, на случай, если Андерсон скажет что-нибудь о жаре. Это была первая за сегодняшний день победа его настоящего врага - жары. Когда он выходил из столовой, рубашка его под мышками уже пропиталась потом. А долгий день еще впереди.
Сначала он презирал жару, но теперь научился бояться ее. Он завидовал молодым офицерам, которые, казалось, почти не потели, и завидовал своим сверстникам, которые, казалось, примирились с жарой и теперь спокойно выдерживали самые худшие часы трудного дня, а потом говорили: "Да, было жарко", как будто этим все и исчерпывалось.
Когда он впервые приехал во Вьетнам, он почувствовал, что жара - враг всех белых, но она скоро стала его личным врагом, потому что он не умел ей противостоять. Другим еще как-то удавалось держаться.
Первый день его пребывания в Мито совпал с пасхальным воскресеньем, на которое была назначена крупная операция. Термометр показывал 45 градусов (он запомнил, какая была температура в этот день,- редкий случай, так как, подобно остальным обитателям Мито, он скоро привык считать погоду просто жаркой, а точной температурой никто не интересовался: вчера было жарко, сегодня жарко, завтра будет жарко. Об этом вообще не думали). Тогда было сухо, а марш оказался очень долгим. Четверых американцев свалил тепловой удар. Он мучился на командном пункте, но не столько от жары, сколько от мысли о жаре: в его воображении Вьетнам превращался в 365 таких вот дней. Когда привезли второго американца, молодого лейтенанта, он почувствовал головокружение и чуть не грохнулся в обморок. Это позабавило тогдашнего главного советника, который тут же предложил ему отправиться в часть на место лейтенанта. Потом, когда Бопре уже собирал свое снаряжение, полковник остановил его и сказал, чтобы он не принимал все так близко к сердцу: просто сегодня тяжелый день. Позже он узнал, что и вьетнамцы считали этот день тяжелым: к вечеру, помогая отвозить в часть питьевую воду, он увидел, что вьетнамцы лежат на земле без сознания, словно одурманенные. Шестерых он погрузил в вертолет и увез с собой. Перетаскивая почти безжизненные тела вьетнамцев, он почувствовал себя уверенней, однако теперь он знал, что в войне у него будет два врага.
Бопре и Андерсон вышли из семинарии к джипу, который должен был отвезти их на вьетнамскую базу на другом конце городка. За рулем сидел молодой капрал - из службы связи, решил Бопре. Едва они тронулись с места, как капрал повернулся к Андерсону и спросил:
- Знаете, какой сегодня день?
Андерсон ответил, что не знает.
- Двадцать первый,- сообщил капрал.- Всего-навсего три недели. Ровно двадцать один день осталось мне служить в этой стране. А там - домой!
Андерсон кивнул.
- А можно вас спросить, лейтенант? Сколько дней вам осталось?
Андерсон улыбнулся - почти смущенно, подумал Бопре.
- Сто восемьдесят два.
- Сто восемьдесят два? Это хорошо,- сказал капрал.- Теперь дело пойдет на убыль. Сто восемьдесят три уже позади, вот что важно, а теперь пошло на убыль. Я помню мой сто восемьдесят третий день!..- Он повернулся к Бопре и спросил:- А сколько вам, капитан? Извините, что интересуюсь.
- Не знаю,- ответил Бопре.
- То есть как это не знаете?- удивился капрал.- Должны знать! Все знают. Даже полковник. Так сколько же?
- Сто одиннадцать,- сказал Бопре.
- А вы уверены, капитан? В таких делах надо быть точным. Свой-то срок я подсчитал. Пятьсот четыре часа. Тридцать две тысячи двести сорок минут. Здесь точность нужна.
Бопре сказал, что он уверен. Капрал спросил, когда он прибыл во Вьетнам. Бопре ответил.
- Нет, сэр,- сказал капрал.- Тогда это неверно. Не может быть сто одиннадцать. Какого числа вы прибыли, сэр?
Бопре назвал число.
- Нет, сэр,- сказал капрал,- вам куда меньше осталось. Ну, пятьдесят девять, самое большее - шестьдесят.
- Верно, шестьдесят,- согласился Бопре.
- Вы бы точнее считали, капитан,- посоветовал капрал.- Тут нельзя ошибаться, не то вас оставят на второй срок. Разве им можно доверять? Надо считать самому. Уж они-то вам не помогут, особенно в таком деле. Хорошо еще, что я с вами сегодня еду, а то вы бы так и думали, что вам еще четыре месяца осталось. Шестьдесят дней. Одна тысяча четыреста сорок.
- Чего?- спросил Бопре.
- Часов,- ответил капрал.
- Спасибо,- сказал Бопре.
Наступило молчание. Небо еще не посветлело, поэтому фары были включены на ближний свет. Но в воздухе уже начинала чувствоваться духота. Бопре спросил Андерсона:
- Сколько у нас сегодня деревень?
- Три,- ответил лейтенант.- Апвиньлонг, Аптхань и Апбиньзыонг.
- Ап - что?- переспросил Бопре.
Андерсон повторил названия.
- Мы ведь там уже были.
- В которой?- спросил Андерсон.
- Во всех,- сказал Бопре.
- Нет,- ответил Андерсон.- Ни в одной из них мы еще не были. Это все новые объекты.
Помолчав, Бопре спросил:
- Знаете, в чем беда этой страны, Андерсон? Слишком много деревень. Слишком много этих проклятых деревень - сотни, даже тысячи, и все похожи одна на другую. И слишком много в них людей. Если бы здесь не было такого множества удаленных друг от друга деревень, не было бы и войны и не надо нам было бы без конца ходить пешком. Вытащите-ка всех этих людей из деревень, сгоните их в один большой город - и не будет ни войны, ни маршей. А потом соберите ребят, которые служат в нашем Управлении экономической помощи и огребают по пятнадцать тысяч в год плюс деньжата на служебные расходы, и заставьте их изобрести большую машину, чтобы она сажала рис, и поливала рис, и пинала буйволов в зад, а потом собирала рис и посылала его в тот единственный город - пусть люди там делят его и едят. Вот тогда не будет войны и не будет американцев. Наша обязанность - дать им такие машины.
Андерсон засмеялся.
- Чертова страна,- сказал Бопре.- Сколько деревень, и все называются одинаково: Апвиньтханьбиньдиньлонгзыонг.
Они въехали в городок. Ранние прохожие уже шли на рынок - люди, чей мир, в какой бы стране они ни жили, был не похож на мир Бопре. Они ложились спать, когда он только входил в бар, и он всегда чувствовал себя неловко, если был еще на ногах, когда они просыпались,- но не здесь, не в этой стране.
- Знаете, что скажет этот сукин сын Данг, когда увидит нас?- спросил Бопре.
Андерсон засмеялся.
- Он скажет: "А-а, доброе утро, мои друзья, американские воины! С добрым утром!"
Андерсон расхохотался: Бопре был прав.
Джип подъехал к длинной колонне грузовиков, в которых уже ждали вьетнамские солдаты. Солдат посадили спиной к движению - так что в случае нападения они не могли бы сразу открыть ответный огонь.
Данг радостно им улыбнулся. Похлопал Бопре по плечу и сказал:
- Мои самые любимые американские воины! А-а, доброе утро! А-а, доброе утро, мой друг капитан Бопре и мой молодой друг лейтенант Андерсон!
- Капитан Данг, мой самый любимый вьетнамский воин!- сказал Бопре, и ему послышалось, что Андерсон подавил смешок.
- Я вижу, у капитана Бопре сегодня хорошее настроение, как и у его друга капитана Данга. Сегодня мы отправляемся на охоту за коммунистами Вьетконга. Я думаю, все пойдет очень хорошо и мы убьем много коммунистов Вьетконга.
Бопре дипломатично кивнул и справился о здоровье миссис Данг и маленьких Дангов.
- Сегодня, капитан Данг, коммунисты Вьетконга получат хорошего пинка в задницу,- сказал Андерсон.
- А-а, американцы!- сказал Данг.- Энергичные люди. Воины.
Бопре, лениво переговариваясь с Дангом, подумал о том, что Данга он получил, можно сказать, в награду, он словно выиграл его в лотерее на вторую неделю своего пребывания во Вьетнаме, когда у него еще был какой-то запас энергии и честолюбия. Его тогда временно назначили в другой батальон, предупредив, что батальонный командир слаб, но что он, Бопре, должен вести себя сдержанно и тактично и не ставить союзника в глупое положение. Это была первая лекция, которую ему пришлось выслушать, и он машинально, почти не слушая, кивал головой, зная заранее, что ему скажут, зная, что ему придется к этому приспосабливаться,- он был старый служака.
Спустя десять дней этот батальон был послан на задание и опоздал на сорок минут к месту соединения с другими частями, одна из которых, действовавшая на восточном фланге, попала в засаду. В это время батальон Бопре делал очередной привал (эти бесчисленные привалы прерывали марш, как рекламные сообщения - радиопрограмму). Когда Бопре услышал по радио о засаде, солдаты все еще отдыхали. Он подождал немного, затем сказал командиру, что следовало бы сняться с привала. Командир кивнул, согласился, но никаких распоряжений не отдал. Через несколько минут сцена повторилась, голос Бопре звучал теперь настойчивее: ведь там сражались свои (тогда он еще считал их своими),- и командир снова с ним согласился и снова не отдал никаких распоряжений. Наконец, отмерив по своим армейским часам ровно две минуты, Бопре опять подошел к командиру, вне себя от злости (он ко многому был равнодушен, но не к тому, чтобы бросать своих без поддержки под обстрелом противника), и начал кричать: "Черт возьми, расшевелите же их! Что у них, зады приросли? Дайте им пинка! Если не можете сами, я это сделаю! Дьявол вас побери, люди гибнут где-то на проклятых рисовых полях, а вы даже не шевелитесь! Ваши же солдаты гибнут. Да что вы за люди, черт побери!"
Это была удивительная сцена, доставившая вьетнамским солдатам огромное удовольствие. Усмехаясь и хихикая, они быстро снялись с привала и скорым шагом двинулись вперед, но было уже поздно. Этот случай вызвал страшный скандал, и у Бопре могли быть большие неприятности, но его предшественники, к счастью для него, неоднократно подавали на этого офицера длинные рапорты с аналогичными жалобами, и полковник уперся, а вьетнамцы, само собой, уступили (командир дивизии относился к командиру попавшего в засаду батальона более благосклонно, чем к офицеру, с которым сцепился Бопре) и произвели соответствующие перемещения. Американцы были чрезвычайно довольны и говорили, что началась новая эра, а полковник отвел Бопре в сторону и сказал, что это большая победа, но что ему следует переменить тактику и во что бы то ни стало наладить хорошие отношения со своим новым коллегой - второго перевода не будет, а потому он должен воздержаться от подобных выходок и не кричать о пинках в зад, даже шепотом не произносить таких слов (говоря это, полковник улыбнулся). Надо уживаться с людьми, проявлять гибкость, слушать, давать советы и вести себя корректно; он одержал большую победу, им гордятся, и в другую часть перевели не его, а вьетнамца, но второй раз этого не произойдет. Бопре слушал, кивал, удивлялся и немножко гордился собой. После этого он получил Данга. Неделю спустя его спросили: "Ну как Данг?" Он ответил (это было единственное, что он сказал за целый месяц): "Что ж, этот говорит по-английски лучше, чем большинство из них". Это была его первая и последняя похвала в адрес Данга.
Пока он беседовал с Дангом, к ним подошел молодой вьетнамский лейтенант (коллега Андерсона) и заговорил с Андерсоном. Оба держались непринужденно. Сначала они разговаривали по-английски, а потом, отойдя в сторону, перешли на вьетнамский. Самые обыкновенные молодые ребята. И вдруг Бопре позавидовал им - позавидовал тому, что они разговаривают по-вьетнамски, и тому, что они разговаривают по-английски, и тому, что они друзья, и тому, что они молоды.
Он повернулся к Дангу, и они продолжали разговор: каждый сообщил другому, что день будет жаркий, очень жаркий.
Потом они с Дангом сели в джип и подъехали к первому грузовику, и вот уже колонна выбралась на шоссе, с джипом и американцами во главе. Если шоссе заминировано, подорвутся на мине они.
По обеим сторонам шоссе пробуждалась жизнь, здесь была цивилизация: создавались импровизированные рынки и дети продавали ананасы, нарезанные на куски.
У моста колонна остановилась, и к машине от одного маленького прилавка хлынули дети - прямо сотни детей протягивали ананасы. Солдаты начали торговаться, смеялись и что-то кричали детям - один предлагал мальчику пять пиастров за ананас и его сестру в придачу. Они накупили ананасов, и Бопре с жадностью поглядел на толстый и сочный кусок, прикидывая, сколько он стоит на американские деньги - цента два, но сдержался, хотя ни на секунду не забывал о жаре.
Потом они миновали мост и поехали по проселку, но вскоре остановились и слезли с грузовиков: теперь даже эта узенькая полоска цивилизации - цивилизации голоштанных мальчишек, продающих ананасы,- и та осталась позади. Они были в сердце страны.
Дальше они двинулись гуськом - маленькие люди в больших касках, с большими автоматами. А странно: когда Бопре в первый раз увидел их в бою с вертолета, он был поражен, какими большими они казались. Он ожидал увидеть миниатюрных солдатиков, вооруженных бойскаутов, но сверху их до последней минуты было трудно отличить от американских советников - только походка была иная, так как вьетнамцы, конечно, не видели такого количества "вестернов", как американцы. Но на земле они снова выглядели маленькими человечками в касках, превращавших в карикатуру и их самих, и войну,- не солдаты и не бойскауты; из-за касок все казалось почему-то несерьезным. Недаром иногда полковник по рассеянности называл вьетнамцев малышами.
Батальон Бопре был сформирован из солдат одиннадцатого полка - собственно говоря, это был не полный батальон, а штабная рота, которой придали еще одну роту, всего сто пятьдесят человек.
Бопре видел, как Данг разговаривал с вьетнамским лейтенантом, потом Данг что-то сказал солдатам, и они зашагали весело и бодро. Бопре шел позади Данга, как всегда полный утренней решимости вести себя правильно и действовать в тесном контакте с ним - к полудню эта решимость обычно без следа исчезала.
- Как вы думаете, капитан, войдем мы сегодня в соприкосновение с противником?- спросил он.
- А-а, с противником!- сказал Данг.- Да.
Несколько минут они шли рядом, и Бопре тщетно пытался начать какой-нибудь разговор; и прежде иногда Данг прекрасно говорил по-английски, а иногда все происходило так, как на этот раз,- Данг изолировал его от солдат. Обойтись же без посредничества Данга он не мог, так как не знал языка. И он чувствовал, что Данга это устраивает, что Данг очень ревниво относится к возможности его непосредственного контакта с солдатами. В результате, разговаривая с одним Дангом и встречая только улыбки сотни маленьких людей, Бопре ощущал себя не столько советником, сколько туристом в чужой стране. Да, он турист, просто у него больше гидов, чем обычно полагается туристам. Он видел страну, но по-настоящему не понимал ее. Вначале это ощущение беспокоило Бопре, его тревожило опасение, не один ли он здесь посторонний. Но потом он заметил, что его американские коллеги почти все ходят с фотоаппаратами - простенькими японскими камерами - и с их помощью запечатлевают буддийские храмы, убитых вьетконговцев и вьетнамских друзей, а потом позируют приятелю рядом с какой-нибудь чернозубой старухой.
Бопре посмотрел на солдат - они делали все не так с самого утра, когда сели в грузовики таким образом, что не смогли бы стрелять, если бы попали в засаду, и он не сомневался, что оружие у них не чищено (Бопре гордился тем, что он не формалист, но считал, что в боевой обстановке оружие должно содержаться в порядке). И они шумят на марше, как всегда. Он не разделял нежности, которую многие его коллеги питали к вьетнамским солдатам. Американцы, по его мнению, для очистки совести вечно разглагольствуют о том, как хороши вьетнамцы и как прекрасно они ведут себя в бою, несмотря на посредственных офицеров. Но Бопре они не нравились: он считал, что они слишком шумят на марше, не заботятся об оружии и, хуже того, не заботятся о своих товарищах. (Впрочем, и товарищи их не стали бы заботиться о них, это взаимно).
Своим собственным поведением он был доволен: серьезных стычек с Дангом у него не возникало (так, небольшие споры) и он ни разу не сорвался в присутствии Данга. Он давно уже научился не требовать многого и, требуя мало, получал еще меньше. Он не давал излишних советов, избегая ставить Данга в неловкое положение, поскольку тот не догадался о чем-то раньше, и не желая сам попадать в неловкое положение из-за того, что его совету не последовали.
Они шли уже около получаса, когда Бопре решил все-таки дать совет. Он всегда был очень осторожен: когда у него возникала какая-нибудь мысль, он не торопился ее высказать, а сперва обдумывал, взвешивал и решал, стоит ли вмешаться. Солдаты шли скученно с самого начала, но он ничего не говорил, не желая начинать день с самого элементарного, самого обидного замечания, не желая растрачивать тот маленький авторитет, которым еще располагал. Бог знает, что еще может случиться в течение дня, не было смысла сразу же выскакивать со своим американским всезнайством. Но они шли скученно, а налогоплательщики Соединенных Штатов наняли его, Бопре, именно для того, чтобы он не давал им скучиваться,- за это ему платят жалованье, пусть даже довольно скромное. "Одной гранаты,- повторял в Корее его первый сержант, немолодой и флегматичный человек по фамилии Шаусс,- одной гранаты хватит, чтобы изрешетить пятьдесят задниц, если вы будете скучиваться, и эту паршивую гранату брошу я, сержант Шаусс".
Бопре остановился и повернул назад, чтобы поговорить с Дангом. Капитан улыбнулся - он всегда улыбался, даже когда Бопре был уверен, что он взбешен. Бопре поймал себя на том, что он и сам улыбается. Наверно, Данг думает, что американцы всегда улыбаются - даже когда им плюют в морду, даже когда они требуют невозможного.
- Дай ви...- начал он.
Вьетнамское слово, означающее "капитан",- одно из немногих вьетнамских слов, которые знал Бопре. Поэтому он пользовался им очень часто, словно заклятием. Это слово как бы означало, что он, Бопре, любит его, Данга, страну и народ. В этом слове воплощалась его неспособность постичь эту страну. Одной из причин неприязни Бопре к Андерсону, помимо его молодости, его рвения и уверенности, что через два года он, Андерсон, станет капитаном, а вскоре и майором, было то обстоятельство, что лейтенант хорошо говорил по-вьетнамски, знал (во всяком случае, так он утверждал), что говорят и что думают вьетнамцы, проводил много времени в их обществе и был способен смеяться вместе с ними, даже с солдатами.
- Дай ви,- начал Бопре и, заплатив дань уважения международному братству, перешел на свой родной язык. Теперь он говорил почти извиняющимся тоном, словно это по его, Бопре, вине солдаты шли скученно.- Солдаты идут слишком близко друг к другу.
Он улыбнулся. Капитан улыбнулся.
- Да,- сказал Данг.
- Может быть, им лучше немного рассредоточиться?- сказал Бопре.- Они просто напрашиваются на засаду.
Капитан кивнул и сказал что-то по-вьетнамски. Команду передали по колонне.
"На этом все и кончится",- подумал Бопре.
Сначала как будто что-то началось и в колонне наметилось какое-то перемещение, но через несколько минут солдаты опять скучились - не хватало только сержанта, Шаусса и его одной гранаты.
Бопре прошел в голову колонны. Ему не нравилось соседство Данга, тем более что тот шел за радистом, а вьетконговцы часто давали первый залп именно туда, рассчитывая покончить разом с офицером и с радистом. Какой смысл подставлять под этот залп еще и американца? Кроме того, ему нравилось идти в голове колонны.
К восьми часам стало жарко. Он правильно оценил своего врага. Когда он только-только приехал во Вьетнам, он решил придерживаться строгого режима. Одна фляга воды в сутки. Первый глоток после одиннадцати утра. К трем часам, то есть к середине дня, когда солнце в зените, во фляге должно оставаться больше половины. До полудня - никаких местных фруктов. Он очень боялся жары, и этот страх заставлял его быть решительным. Режим был очень строг. Но через две недели он начал мошенничать. Человек остается человеком, даже если он боится. Через две недели войны он воевал уже не столько с противником, сколько с солнцем: шагая под палящими лучами по высохшим рисовым полям, он думал не о том, где сейчас противник, а о том, сумеет ли он пересилить жажду и когда можно будет еще попить. Сначала он обманывал себя тем, что дисциплина дается не сразу, что требуется время, надо пожить еще немного в этой стране, чтобы сладить с жарой, а когда он похудеет и закалится, дела у него пойдут лучше. Но чуда не произошло. Он был слишком стар для этой страны и не мог приспособиться. Он не переменился и не стал стройнее, а остался таким же, иногда даже прибавляя в весе. В очень тяжелые дни, когда операции длились долго и сильно жгло солнце, его форма темнела от пота и он терял фунтов десять, но между операциями всегда бывало два-три дня перерыва, и он возвращал все потерянное, потому что пил - за завтраком, за обедом, за ужином и в баре. (Полковник, который знал, что происходит, когда человек теряет выдержку, был тактичен, говорил, что всему виной апельсиновый и томатный сок, и не возражал против посещений бара, а только рекомендовал обходиться без завтрака). Когда он понял, что проигрывает свою войну, он начал мошенничать: прикладывался к фляге сначала за несколько минут до положенного времени, а затем все раньше и раньше, рассчитывая, что отыщутся фрукты, что найдется какой-нибудь благодетель, поможет счастливый случай или у щедрого пилота на вертолете окажется полная фляга холодной воды. До сих пор ему везло. Только один раз он по-настоящему попал в трудное положение, но и тогда в последнюю минуту, когда он уже не мог больше терпеть и решил пойти к Андерсону попросить глоток воды, солдаты обнаружили кокосовую рощу. Потом он сидел под пальмой и пил сладкий сок, который тек у него по лицу, по шее и, главное, по рубашке, а Андерсон стоял и злился, потому что отряд не двигался. Бопре же в тот день был снисходителен к вьетнамцам.
Вместе с Бопре во главе колонны шли двое вьетнамцев. Одного из них, широкоплечего коротышку с усами, он узнал: это был уроженец Нунга, которого Андерсон считал лучшим сержантом в роте. Второй, худенький, был просто одним из сотни ему подобных. Они шли втроем впереди колонны, все время сменяя друг друга; когда шедшему впереди что-нибудь казалось подозрительным, он тотчас занимал позицию, удобную для ведения огня, а другой сходил с главной тропы и шел вдоль фланга колонны. Они менялись, не говоря друг другу ни слова: вьетнамцы не знали английского, а Бопре - вьетнамского. Но здесь помогала простая военная выучка - разговаривать не было нужды, все делалось инстинктивно. Некоторое время спустя их догнал молодой вьетнамский лейтенант; он кивнул Бопре и несколько минут принимал участие в их балете, а затем, словно по сигналу, они с Бопре убавили шаг.
- Капитан, кажется, обеспокоен тем, как идут наши солдаты,- сказал лейтенант.
- А вас это не беспокоит?- спросил Бопре.
- Они идут очень близко друг к другу, это верно.
- Что же вы ничего не предпримете?- сказал Бопре.
- Разве капитан видит на моей гимнастерке генеральские звезды?- спросил лейтенант.
- Это ваши люди,- сказал Бопре.- Письма их вдовам буду писать не я.
- У нас во Вьетнаме эта роскошь - письма - не принята. Это вы пишете письма.
- Это ваши люди,- повторил Бопре.
- Как и вьетконговцы,- сказал Тыонг.
Бопре хотел было ответить ему, что вьетконговцы не ходят кучно и не нуждаются в советниках, но сдержался. Лейтенант, словно по сигналу, отошел от него и занял свое место в колонне. Бопре с досадой почувствовал, что хочет пить; он уже готов был приложиться к фляге, но потом решил перетерпеть и дождаться, пока отряд не выйдет из первой деревни. Они должны войти в первую деревню очень скоро, через полчаса или раньше, если будут продвигаться нормально и не слишком часто останавливаться для отдыха,- вот потом он попьет. Он надеялся, что к полудню, когда они выйдут из второй деревни, его фляга все еще будет наполовину с водой.
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Лейтенант Тыонг был зол на американского капитана и зол на себя. Возвращаясь на свое место, он попытался растянуть колонну.
- Держитесь подальше друг от друга,- говорил он.- Не идите так скученно. Разве вы шли бы так, если бы вьетконговцы находились в двухстах ярдах отсюда? Сегодня они будут стрелять только в рядовых. Офицеров не тронут. Только рядовых.
Тыонг был в очень скверном настроении, его мучила сильная боль; он чувствовал, что скоро пойдет дождь, и тогда ему придется совсем тяжко - ступать на больную ступню будет еще труднее. Неудачный день - на десятой минуте марша он поскользнулся, нога провалилась в яму, и, еще не ощутив боли, он понял, что произошло. С ним уже был такой случай, но тогда он был моложе и подобная неуклюжесть казалась более извинительной. Колышек глубоко вонзился в мякоть ступни, и он почувствовал страшную боль. Он ничего не сказал. На мгновение он задержался, а шедший сзади солдат обошел его и пошел дальше, но следующий остановился, поглядел и понял, что произошло с лейтенантом. Солдат хотел было что-то сказать, помочь, но, взглянув в лицо Тыонга, встретил его каменный взгляд, приказывавший идти дальше, и, напуганный свирепостью этого взгляда, не просто пошел, а даже как-то рванулся вперед. Тыонг не хотел показать, что ему больно, не хотел, чтобы другие знали о случившемся. Наступить на колышек мог только новобранец или американец - новобранцев за такую ошибку бьют по лицу, а американцы за это награждают себя орденами. Он мог бы остановить колонну хотя бы ненадолго, но не остановил. Он не хотел, чтобы солдаты узнали, что произошло, не хотел, чтобы американцы узнали про его оплошность - узнали, что он способен на такую оплошность.
Он опустился на одно колено и быстро вытащил ногу. Он почувствовал, как колышек вышел из резиновой подошвы его ботинка, а вернее, офицерской теннисной туфли, и боль стала сильнее, к ней прибавилась какая-то новая боль. На мгновение ему показалось, что острие колышка обломилось и осталось в ступне. Тыонг был почти уверен, что так оно и произошло, потому что пять лет назад, когда он был еще молодым и глупым кандидатом в офицеры, обломок действительно остался у него в ступне и был извлечен несколько недель спустя из распухшей, позеленевшей ноги - это была настоящая операция, и ее сделали только потому, что он готовился стать офицером. Врач-француз, оперировавший его и спасший ему жизнь, равнодушно сказал ему тогда, что, будь он простым солдатом, он умер бы "comme tous les autres" ["Comme tous les autres" - как все прочие (фр.)]. Потом врач угостил его сигаретой - в виде исключения, сказал он, потому что тем, кто оставался жить, он сигарет обычно не предлагал.
Тыонг не сомневался, что колышек был чем-то измазан - скорее всего, навозом буйвола, излюбленным средством вьетконговцев, во всяком случае, оно дешево, да и всегда под рукой в отличие от других, более совершенных средств химической войны. Но промывать ранку времени не было. Он наступил на поврежденную ногу и почувствовал резкую боль. К вечеру она станет сильнее, а на следующий день будет совсем скверно. Он сделал несколько осторожных шагов и убедился, что может идти, почти не прихрамывая. Он оглянулся и увидел, что даже не оставляет кровавых следов. Чтобы не хромать, он старался идти на цыпочках. Он не хотел, чтобы американцы увидели, что он хромает, и прислали за ним вертолет (они угощали офицеров вертолетами, как жевательной резинкой); он не хотел даже думать о вертолете - от эвакуации в тыл он всегда мог отказаться. Сегодня до конца дня он как-нибудь продержится, а если повезет, ночевать в поле они не будут; операция, по-видимому, рассчитана только на дневное время, так что вечером он вернется в Мито и пошлет своего ординарца Динга раздобыть за деньги чистого спирта или на худой конец местного коньяка, который, по сути, тот же спирт, только подкрашенный, и промоет рану, а дня через три обратится к врачу. Спирт, наверное, спасет ему ногу, хотя деньги за него, бесспорно, попадут в руки коммунистов.
Теперь, отходя в конец колонны, он слышал, как солдаты позади переговариваются и смеются. Один из них включил транзисторный приемник и подпевал певцу, исполнявшему песню о богатой девушке - девушка любила одного юношу, но юноша был бедный, а потому благородно отказался от нее, так что девушке пришлось покончить жизнь самоубийством.
Тыонг подумал, что эта песня подозрительно смахивает на коммунистическую пропаганду.
- Бинь,- спросил он солдата,- а ты знаком с богатыми девушками?
- Да, лейтенант,- ответил солдат.- У солдата много богатых подружек.
- И они тебя любят?
- Конечно, лейтенант. Как же иначе?
- Но ты ни на одной не женился?
- Я не хотел на такой жениться, это было бы неправильно, потому что мой долг оставаться бедным. Ведь если б я стал богатым, мне трудно было бы защищать свою родину, не захотелось бы ей служить.
- И ты согласился бы на то, чтоб богатая девушка покончила жизнь самоубийством?
- Только для спасения родины, лейтенант,- ответил солдат.
- Так, может, ты для спасения родины не будешь так жаться к рядовому Тханю, который идет впереди тебя?
- Простите, лейтенант. Это я делал не для спасения родины, а для спасения Тханя.
Тыонг стоял и смотрел, как солдаты менялись местами и Бинь толкнул Тханя в спину, чтобы тот ушел подальше вперед. Этот разговор развлек его, но ненадолго: двинувшись дальше, к хвосту колонны, он почувствовал, как вернулась боль. Он не сомневался: теперь он заметно прихрамывает,- и мысль о том, как будут пересмеиваться солдаты, привела его в ярость. Ему показалось, что один из солдат внимательно смотрит на него. Он обернулся, и взгляды их встретились. Тыонг подозвал солдата и велел открыть патронную сумку. Она оказалась полной. Тыонг испытал чувство, похожее на досаду. Если бы ему повезло и патронов не хватало бы, у него был бы повод отчитать солдата и хотя бы на время забыть о боли и унижении.
- Где твой индивидуальный пакет?- резко спросил он.
Солдат, удивленный раздраженным тоном обычно спокойного офицера, простодушно посмотрел на Тыонга и ответил, что пакета у него нет. Вид у него был такой невинный, что Тыонг, намеревавшийся дать ему нагоняй, вдруг осекся и только велел в следующий раз не забыть взять пакет - ведь в любой момент он может быть ранен или контужен (или провалится в яму с колышком, мысленно добавил Тыонг). Солдат улыбнулся, и Тыонг невольно улыбнулся в ответ.
- Какой великой мудрости ты обязан тем, что взял сегодня полный комплект патронов?- спросил он.- Твоя жена смотрела свой гороскоп?
- Просто я удачливый,- ответил солдат.
- А свой гороскоп ты знаешь?
- Моя жена смотрела свой гороскоп и сказала, что на этой неделе большой человек будет добр ко мне.
- У твоей жены прекрасный гороскоп,- сказал Тыонг.- Но что с ним случилось, когда она выбрала в мужья тебя?
***
В восемь тридцать они вошли в первую деревню. И тут же поступило донесение, что на северном конце деревни замечены два убегающих старика. В погоню за ними было послано подразделение, но оно явно не торопилось. Андерсон сказал себе, что это просто еще два старика, которые куда-то скрылись; однако даже это маленькое событие на какое-то время приятно взволновало его: может быть, все-таки сегодня будет бой?
На подступах к деревне он внимательно осмотрел стену леса и решил, что густая чаща деревьев и кустов справа от него - прекрасная позиция для вьетконговцев, так как оттуда открывался вид на все поле, через которое сейчас шел отряд. Андерсон приготовился открыть заградительный огонь; он сознавал, как сознавал всегда, что вьетконговцы, если они действительно прячутся там, прекрасно его видят, а из-за своего роста он является естественной мишенью. Сам он, будь положение обратным, несомненно, целился бы во вьетконговца, который возвышался бы над остальными на полторы головы.
Но вьетконговцев там не оказалось, и они вошли в деревню без единого выстрела.
Бопре сделал несколько шагов в сторону, и Андерсон проследил за ним взглядом. Бопре как будто рассматривал вход в одну из хижин, но на самом деле глядел на огромную бочку с дождевой водой, стоявшую у этой хижины. "Он думает, напиться этой воды или же налить ее себе во флягу",- решил Андерсон. Но воду могли отравить, да и в любом случае в нее придется бросить галазоновую таблетку, а они оба терпеть не могли воду, обработанную таким способом. "Нет, он сумасшедший,- думал Андерсон,- пьет виски и прочую дрянь, а потом каждый день вот так приближает себя к смерти". Андерсон заметил колебания Бопре, заметил, что тот решил все-таки не пить, и на секунду почувствовал к капитану симпатию и жалость, что случалось редко; в эту минуту Бопре был не озлобленным циником, а просто солдатом, которому хотелось пить. "Интересно,- подумал Андерсон,- сумеет ли он выдержать в следующий раз?"
- Жарко сегодня,- сказал Бопре, подходя к Андерсону, и указал на вьетнамцев.- Вот и женский корпус прибыл.
Солдаты собирали женщин на деревенской площади. Их оказалось шестеро да еще четверо детей. Из этой деревни бежали даже дети. Все женщины выглядели старухами - каждой можно было дать не меньше пятидесяти-шестидесяти лет. Когда Андерсон только приехал во Вьетнам, он думал, что им действительно столько лет. Но от Тыонга он узнал, что многим из этих женщин на самом деле не больше тридцати пяти, однако жизнь, работа, постоянные роды - а дети нередко рождаются мертвыми - состарили их, лишили женственности. Прежде красные от бетелевой жвачки зубы почернели, как гнилые тыквы, груди высохли и исчезли, словно их никогда и не было, а кожа стала не желтой и не коричневой - он не мог подобрать подходящего слова: цвет чего-то сухого, обо что можно зажигать спички. Как-то, когда ему тут все было еще внове, он сказал Тыонгу, что хотел бы понять его страну. "Если вы хотите понять нашу страну,- ответил Тыонг,- поезжайте в Сайгон, зайдите в самый новый бар, выберите самую красивую вьетнамскую проститутку, но отвезите ее не в отель, а к ней домой - в Шолон [Шолон - китайский квартал Сайгона] или где там она еще живет,- лягте с ней в постель в ее лачужке и весь вечер слушайте, как ее мать и бабка кашляют до поздней ночи. Вот тогда вы поймете мою страну".
Одна из женщин стояла в стороне от остальных, и Андерсон подошел к ней и сказал по-вьетнамски, что он очень сожалеет, если они помешали их утренней работе.
Он видел ее зубы - они были крепко сжаты. Он ей улыбнулся, но она не ответила ему улыбкой.
Он спросил, не занималась ли она стряпней и что она стряпала. Женщина даже не отвела от него взгляда. Он для нее не существовал.
Андерсон почувствовал на своем плече чью-то руку. Это был Тыонг. Он безмолвно просил Андерсона предоставить все расспросы вьетнамцам. Андерсон отошел к хижине, у стены которой стоял, прислонясь, Бопре. Он как будто заметил на лице капитана легкую усмешку. И немного смутился, так как был очень горд своими познаниями во вьетнамском языке. Он сказал Бопре, что допрос лучше предоставить вьетнамцам.
Насмешливая улыбка исчезла с лица Бопре, оно стало абсолютно непроницаемым.
- Возможно, их пугают ваши зубы,- сказал он.
"Сукин ты сын,- подумал Андерсон.- Пусть-ка днем станет еще жарче, хоть мне и самому придется несладко". Вслух же он сказал:
- А вы становитесь все больше и больше похожи на них. Даже думаете уже, как они.
***
Тыонг начал допрос без всякой охоты. Для него это была самая неприятная часть службы, и это обстоятельство отразилось на изменениях в ходе его карьеры. Когда он был еще кандидатом в офицеры, он больше всего любил допрашивать, у него это получалось лучше, чем у других,- возможно, потому, думал он, что его родители были беднее родителей других офицеров, а он старался быть образцовым офицером. Но с каждым годом эта обязанность нравилась ему все меньше и меньше, и в конце концов он проникся к ней отвращением. Это случилось два года назад, когда они вошли в деревню, которая, как они знали, была вьетконговской, и не нашли в ней ничего. Они уже собирались уходить, как вдруг мальчик лет трех посмотрел на него, расплакался, а потом побежал к дереву на берегу канала и вытащил из дупла своего отца, молодого вьетконговского офицера. Отец ни разу не взглянул на Тыонга, не сказал ему ни слова, а только подошел к мальчику и стал ласково гладить его, чтобы успокоить. А когда ребенок наконец утих, он повернулся к Тыонгу и сказал: "Ну, куда мне идти, на север или на юг? Давайте кончать". После этого случая война стала казаться ему бесконечно долгой и отвратительной. Обе воюющие стороны заставляли этих людей платить все более высокую цену, и люди замыкались в себе, и разговоры с ними все больше и больше превращались в разгадывание шарад, становились все более и более бесплодными, они говорили все больше слов, а люди - все меньше, и в конце концов допросы сделались для него самой неприятной стороной войны. Он считал, что политические работники Вьетконга должны испытывать такое же чувство, но у них, думал он, есть по крайней мере какой-то лозунг, идея, какая-то революционная цель, которая их поддерживает, есть соответствующее изречение Хо, которому они верят.
Тыонг начал допрос, опасаясь, как бы не выдать всех этих мыслей и чувств. Он пытался одновременно и успокоить, и запугать женщину, подозревая, что ни то ни другое у него не получается. Сначала он поинтересовался видами на урожай и выразил надежду, что урожай будет хороший. Он услышал ее уклончивый ответ: у лейтенанта же есть глаза и, наверно, он сам видит, он человек ученый, так пусть посмотрит и сам скажет, какой будет урожай, а она не отличит хорошего урожая от плохого - как они были бедняками, так и останутся. Он услышал собственные слова: здесь, в их части дельты, живется лучше, чем на юге под Уминем, откуда родом он сам (он долго работал над тем, чтобы избавиться от северного акцента, и его уверяли, что это ему вполне удалось). Там одни болота и дети всегда болеют. Он посмотрел вниз, на мальчика, стоявшего рядом с женщиной, и встретил взгляд, полный яростной ненависти: четырехлетний мальчик уже знал, что такое ненависть и гнев. Он услышал ее ответ: она рада, что военный господин считает, что им живется лучше. А им самим откуда знать? Только ученый человек, мудрый человек может разобраться в этом, сказала она.
Он смотрел на мальчика, удивленный его враждебностью. Сначала он чувствовал раздражение, а потом его восхитила подобная смелость. Он был бы рад, если бы его собственный сын вел себя так. Потом, заметив на бедре мальчика темный кровоподтек, он удивился и восхитился еще больше.
- Зачем вы сюда пришли?- услышал он слова женщины.
- Не потому, что нам этого хотелось,- ответил он.- Даже у такого глупого человека, как я, нашлись бы другие дела.
- Это не ваша деревня,- сказала она.- Вам тут нечего взять. Тут нет денег, нет богатых людей. Если б люди были богаты, разве они остались бы здесь жить?
- Мы пришли не за деньгами,- ответил он.
- Когда вы уйдете, мы станем еще беднее. Так бывает всегда.
- А если придут вьетконговцы? После них вы тоже будете беднее?
- Им тут нечего взять. Ни вам, ни им. Мы бедны и без вас, без вашей помощи.
Он смотрел на нее, и почему-то ему казалось (может быть, можно внушить другому свои мысли? Может быть, он это делает слишком часто?), что она не говорит того, что думает. (Почему ты с ними? Какая тебе от этого польза? Однажды его отец, которого он любил, сказал ему: "А они уже подарили тебе американский автомобиль?" А он ответил, что у него в отличие от отца нет не только автомобиля, но и мопеда).
- Есть у вас в деревне больные, нуждающиеся в лекарствах?- спросил он.- Маленькие дети?
- Они не примут ваших лекарств,- сказала она.- Здесь нет больных, которые нуждались бы в вашей помощи.
- У меня у самого трое детей,- солгал он.- И я многого лишил бы их во имя моей гордости. Но одного я не лишил бы их ни при каких обстоятельствах - лекарства. Если бы вьетконговцы оставили моей семье лекарства, я велел бы детям принять их.
Тыонг посмотрел женщине в глаза. Она сказала:
- Я уверена, что ваши дети будут здоровы.- С этими словами она повернулась и пошла прочь.
Конечно, он мог бы задержаться и попробовать сломить эту женщину, но он был реалистом. Какой смысл? В конце концов он был бы вынужден вступить в спор, рассердиться, арестовать ее, чтобы она весь день тащилась за отрядом, а на это у него не было сил. Поэтому победа осталась за ней, а он повернулся и пошел к Андерсону, сознавая, что не только вновь потерпел поражение, но, наверно, снова обидел молодого американца; американца он оттолкнул, а с женщиной потерпел неудачу - делаешь все как надо, а разницы никакой, подумал он.
Он подошел к Андерсону, что делал весьма не часто (обычно он обрывал разговор, а не начинал его), и покачал головой. Он сказал по-вьетнамски (это была его манера извиняться):
- С каждым разом все хуже.
- Вы уже бывали в этой деревне?- спросил Андерсон.
- Нет,- сказал Тыонг.- Но не все ли равно? Везде одно и то же. Всюду люди стали злее.
"Мы стали злее, противник стал злее, народ стал злее,- думал Тыонг.- С каждым днем все хуже. Крестьянка лжет мне, а в следующей деревне мне будет лгать другая крестьянка, и мы пойдем в третью деревню, и, когда там кто-нибудь начнет мне лгать, симпатичный лейтенант Тыонг, такой bien eleve [Bien eleve - благовоспитанный (фр.)], в восемь часов вспылит и допустит ошибку - арестует, например, какого-нибудь крестьянина,- а недели через две в эту же деревню в восемь часов утра придет еще кто-нибудь и удивится, почему люди там настолько озлоблены. А завтра в восемь утра я буду зол на свою первую деревню. Заколдованный круг!"
Андерсон был шестым американцем у Тыонга за три года. Шесть раз он учил одному и тому же и за это время повторялся по крайней мере шесть раз. При нормальных условиях советников должно было смениться не больше трех, но постоянно что-нибудь случалось: некоторых перевели в другие части, один не сработался с ним, а один не вынес нагрузки и немного свихнулся - начал жаловаться, будто в семинарии слишком часто кормят рисом, хотя рисом там вообще не кормили.
С каждым разом эти люди вызывали у Тыонга все меньше интереса и все больше разочаровывали его. Когда они только-только появились во Вьетнаме, а он был моложе, он верил, что от них будет толк, что именно они могут изменить то, чего никто другой изменить не мог. Как-никак они еще никогда не проигрывали войн - об этом было написано во всех учебниках (даже французских); они были сильные и богатые (гораздо богаче французов, это он знал), и он надеялся, что с ними во Вьетнам придут сила и богатство, и терпеливо ждал, когда же они изменят его страну; но сначала все оставалось по-прежнему, а потом он вдруг понял, что происходит на самом деле: они не изменяли Вьетнама, а изменялись вместе с ним, становились его частью. В конце концов Тыонг стал воспринимать слабости американцев острее, чем слабости вьетнамцев (слабости вьетнамцев казались ему обычными человеческими слабостями, но слабости американцев - чужих и не похожих на него людей - были именно американскими: пьяный вьетнамец в субботний вечер в Мито был просто пьяным, но пьяный американец был пьяным американцем; трус-вьетнамец был просто трус, но трус-американец был трусливым американцем). Первый его американец глубоко разочаровал Тыонга - он сразу проникся глубочайшей неприязнью к этому высокому грузному человеку по фамилии Рейнуотер. Он много пил, так что по утрам от него всегда разило виски, и постоянно ругал страну и жаловался на то, что войны, по его словам, вообще не было (он вечно спрашивал: "Черт побери, где же эта паршивая война, о которой вы тут болтаете, Тыонг?" И произносил он не "Тыонг", а "Ту-унг", словно присвистывая, а потом добавлял: "Как же тут воевать, если я даже не знаю, где происходит эта паршивая война?"). Он часто ругал вьетнамских женщин, ставя им в пример японок - главным образом потому, что японские проститутки говорили по-английски, а вьетнамские все еще обходились французским, он же этому языку так и не сумел выучиться. Проститутки, говорил он, иногда называют его "beaucoup kilo" [Beaucoup kilo - много килограммов (искаж. фр.)], и долго хохотал, когда Тыонг по его просьбе перевел ему эти слова. Весь год он постоянно подсчитывал, сколько ему еще остается служить здесь, и за завтраком обычно сообщал, сколько дней и часов ему еще придется тут тянуть. Он делал вид, будто удивляется, что Тыонг не думает уезжать из Вьетнама, когда кончится война - если они все-таки ее разыщут, чтобы положить ей конец. А потом сам же объяснял: "Впрочем, вы ведь из этих, из здешних". Сначала Тыонг считал его дураком и пьяницей, но в последние месяцы (а также дни и минуты) против воли проникся к нему симпатией: ему стали нравиться честность Рейнуотера, его вспышки и даже его манера называть вьетнамцев малышами - он сообщил Тыонгу, что не видывал солдат хуже вьетнамцев, даже итальянцы и те лучше. ("Если бы мне пришлось вам советовать, в какую страну вторгаться,- сказал он,- я бы назвал Италию. Но с тех пор, как я попал сюда, я уже не так в этом уверен"). Ко времени отъезда Рейнуотера они стали добрыми друзьями и, как ни удивительно, относились друг к другу с большим взаимным уважением. И тем не менее с Рейнуотером миф об американцах развеялся раз и навсегда, и теперь в глазах Тыонга они были в лучшем случае людьми, способными ошибаться. Тыонг уже не заблуждался насчет Рейнуотера и его уговоров дезертировать, потому что он, черт побери, "слишком хорош для этой войны и этой страны". Но и Рейнуотер не заблуждался насчет Тыонга и однажды, в один из своих последних дней в Мито, сказал: "Тыонг, а ты здорово себе на уме. Ты же мог бы воевать на любой стороне. Тебе плевать и на ту и на другую, верно?" Рейнуотер, ныне покинувший армию по настоянию командования, был единственным американцем, который поддерживал с Тыонгом переписку. На конвертах фамилия Тыонга была всегда написана правильно, но сами письма начинались неизменным: "Дорогой мистер Тунг!" В письмах говорилось о том, как трудно продавать подержанные автомобили в Арканзасе ("Здешние жители давно уже уволились из армии, а потому разбогатели и покупают только новые автомобили, а не старые"); о недоразумениях Рейнуотера с женой ("Эта женщина дрянь, что мне было всегда известно, но теперь она пьет больше виски, чем я, и это скверно"); о его опасениях в связи с активизацией военных действий ("Кажется, теперь эта маленькая война отыскалась. Не будь дураком и постарайся, чтоб тебя не убили и даже не ранили, потому что ты еще не навестил Рейнуотера, как обещал"). Тыонг иногда был не в силах разобрать почерк Рейнуотера и обращался за помощью к его преемникам, которые исполняли его просьбу, хотя явно не одобряли ни содержания писем, ни множества грамматических ошибок.
Другие американцы больше походили на солдат, чем Рейнуотер; по мере того как росло значение этой войны для Америки, их становилось во Вьетнаме все больше, и они были моложе, образованней, стройнее и воздержаннее по части выпивки. Они не только не подсчитывали, сколько дней им осталось служить, но нередко высказывали намерение остаться на второй срок; они добросовестно относились к своим обязанностям, всегда старательно хвалили страну и ее народ и никогда не употребляли слова "малыш" применительно к вьетнамцам. И все же разочарование Тыонга не проходило. Это были храбрые, профессионально хорошо подготовленные, но удивительно бесстрастные люди. Тыонг видел в них скорее актеров, чем солдат: они приезжали, исполненные энтузиазма, они старались, но долго не выдерживали и вскоре проникались тем же фатализмом и чувством обреченности, которые Тыонг замечал в молодых вьетнамцах, тем же фатализмом и чувством обреченности, которые он замечал в себе.
Они ничему не могли его научить - что они знали о войне, о крушении надежд или о том, как люди ведут себя в бою и как выглядят, когда умирают? Когда они все-таки давали полезные советы, которыми можно было бы воспользоваться даже при таком командире, как капитан Данг, он выслушивал их с раздражением и знал (ведь вьетнамцам было прекрасно известно, как именно смотрят на них американцы), что американцы считают его заносчивым сукиным сыном, хотя и неплохим офицером - одно время его даже звали Принцем.
Андерсон, несомненно, был лучшим из всех американских офицеров, каких встречал Тыонг,- храбрым, умным, умеющим обращаться с вьетнамскими солдатами, прилично говорящим по-вьетнамски; и точно так же Бопре, по мнению Тыонга, был самым худшим - неряшливым, беззаботным, равнодушным к своим солдатам, он презирал вьетнамцев, и, что было хуже всего, Тыонг чувствовал, что американец боится.
***
Отряд пробыл в деревне пятнадцать минут. В это время американцы по радио вызвали к аппарату Бопре. Капитан подошел к рации Андерсона.
- Как дела, старина?- спросил дежурный по КП.
- Здесь тихо,- ответил Бопре.- Если не считать шума, который поднимаем мы.
- На Восточном фронте тоже без перемен,- сказал дежурный и засмеялся своей шутке.
- Пленные есть?- спросил Бопре.
- Нет. А у вас?
- Только Андерсон и я.
- Неплохо,- сказал дежурный.- Ну, я свяжусь с вами попозже. Будьте осторожны. Полковник говорит, что опасаться худшего следует тогда, когда особенно тихо.
- Скажите от меня полковнику спасибо,- сказал Бопре.
Отряд приготовился покинуть деревню. "Скоро я смогу попить",- подумал Бопре.
***
- Держитесь подальше друг от друга,- говорил он.- Не идите так скученно. Разве вы шли бы так, если бы вьетконговцы находились в двухстах ярдах отсюда? Сегодня они будут стрелять только в рядовых. Офицеров не тронут. Только рядовых.
Тыонг был в очень скверном настроении, его мучила сильная боль; он чувствовал, что скоро пойдет дождь, и тогда ему придется совсем тяжко - ступать на больную ступню будет еще труднее. Неудачный день - на десятой минуте марша он поскользнулся, нога провалилась в яму, и, еще не ощутив боли, он понял, что произошло. С ним уже был такой случай, но тогда он был моложе и подобная неуклюжесть казалась более извинительной. Колышек глубоко вонзился в мякоть ступни, и он почувствовал страшную боль. Он ничего не сказал. На мгновение он задержался, а шедший сзади солдат обошел его и пошел дальше, но следующий остановился, поглядел и понял, что произошло с лейтенантом. Солдат хотел было что-то сказать, помочь, но, взглянув в лицо Тыонга, встретил его каменный взгляд, приказывавший идти дальше, и, напуганный свирепостью этого взгляда, не просто пошел, а даже как-то рванулся вперед. Тыонг не хотел показать, что ему больно, не хотел, чтобы другие знали о случившемся. Наступить на колышек мог только новобранец или американец - новобранцев за такую ошибку бьют по лицу, а американцы за это награждают себя орденами. Он мог бы остановить колонну хотя бы ненадолго, но не остановил. Он не хотел, чтобы солдаты узнали, что произошло, не хотел, чтобы американцы узнали про его оплошность - узнали, что он способен на такую оплошность.
Он опустился на одно колено и быстро вытащил ногу. Он почувствовал, как колышек вышел из резиновой подошвы его ботинка, а вернее, офицерской теннисной туфли, и боль стала сильнее, к ней прибавилась какая-то новая боль. На мгновение ему показалось, что острие колышка обломилось и осталось в ступне. Тыонг был почти уверен, что так оно и произошло, потому что пять лет назад, когда он был еще молодым и глупым кандидатом в офицеры, обломок действительно остался у него в ступне и был извлечен несколько недель спустя из распухшей, позеленевшей ноги - это была настоящая операция, и ее сделали только потому, что он готовился стать офицером. Врач-француз, оперировавший его и спасший ему жизнь, равнодушно сказал ему тогда, что, будь он простым солдатом, он умер бы "comme tous les autres" ["Comme tous les autres" - как все прочие (фр.)]. Потом врач угостил его сигаретой - в виде исключения, сказал он, потому что тем, кто оставался жить, он сигарет обычно не предлагал.
Тыонг не сомневался, что колышек был чем-то измазан - скорее всего, навозом буйвола, излюбленным средством вьетконговцев, во всяком случае, оно дешево, да и всегда под рукой в отличие от других, более совершенных средств химической войны. Но промывать ранку времени не было. Он наступил на поврежденную ногу и почувствовал резкую боль. К вечеру она станет сильнее, а на следующий день будет совсем скверно. Он сделал несколько осторожных шагов и убедился, что может идти, почти не прихрамывая. Он оглянулся и увидел, что даже не оставляет кровавых следов. Чтобы не хромать, он старался идти на цыпочках. Он не хотел, чтобы американцы увидели, что он хромает, и прислали за ним вертолет (они угощали офицеров вертолетами, как жевательной резинкой); он не хотел даже думать о вертолете - от эвакуации в тыл он всегда мог отказаться. Сегодня до конца дня он как-нибудь продержится, а если повезет, ночевать в поле они не будут; операция, по-видимому, рассчитана только на дневное время, так что вечером он вернется в Мито и пошлет своего ординарца Динга раздобыть за деньги чистого спирта или на худой конец местного коньяка, который, по сути, тот же спирт, только подкрашенный, и промоет рану, а дня через три обратится к врачу. Спирт, наверное, спасет ему ногу, хотя деньги за него, бесспорно, попадут в руки коммунистов.
Теперь, отходя в конец колонны, он слышал, как солдаты позади переговариваются и смеются. Один из них включил транзисторный приемник и подпевал певцу, исполнявшему песню о богатой девушке - девушка любила одного юношу, но юноша был бедный, а потому благородно отказался от нее, так что девушке пришлось покончить жизнь самоубийством.
Тыонг подумал, что эта песня подозрительно смахивает на коммунистическую пропаганду.
- Бинь,- спросил он солдата,- а ты знаком с богатыми девушками?
- Да, лейтенант,- ответил солдат.- У солдата много богатых подружек.
- И они тебя любят?
- Конечно, лейтенант. Как же иначе?
- Но ты ни на одной не женился?
- Я не хотел на такой жениться, это было бы неправильно, потому что мой долг оставаться бедным. Ведь если б я стал богатым, мне трудно было бы защищать свою родину, не захотелось бы ей служить.
- И ты согласился бы на то, чтоб богатая девушка покончила жизнь самоубийством?
- Только для спасения родины, лейтенант,- ответил солдат.
- Так, может, ты для спасения родины не будешь так жаться к рядовому Тханю, который идет впереди тебя?
- Простите, лейтенант. Это я делал не для спасения родины, а для спасения Тханя.
Тыонг стоял и смотрел, как солдаты менялись местами и Бинь толкнул Тханя в спину, чтобы тот ушел подальше вперед. Этот разговор развлек его, но ненадолго: двинувшись дальше, к хвосту колонны, он почувствовал, как вернулась боль. Он не сомневался: теперь он заметно прихрамывает,- и мысль о том, как будут пересмеиваться солдаты, привела его в ярость. Ему показалось, что один из солдат внимательно смотрит на него. Он обернулся, и взгляды их встретились. Тыонг подозвал солдата и велел открыть патронную сумку. Она оказалась полной. Тыонг испытал чувство, похожее на досаду. Если бы ему повезло и патронов не хватало бы, у него был бы повод отчитать солдата и хотя бы на время забыть о боли и унижении.
- Где твой индивидуальный пакет?- резко спросил он.
Солдат, удивленный раздраженным тоном обычно спокойного офицера, простодушно посмотрел на Тыонга и ответил, что пакета у него нет. Вид у него был такой невинный, что Тыонг, намеревавшийся дать ему нагоняй, вдруг осекся и только велел в следующий раз не забыть взять пакет - ведь в любой момент он может быть ранен или контужен (или провалится в яму с колышком, мысленно добавил Тыонг). Солдат улыбнулся, и Тыонг невольно улыбнулся в ответ.
- Какой великой мудрости ты обязан тем, что взял сегодня полный комплект патронов?- спросил он.- Твоя жена смотрела свой гороскоп?
- Просто я удачливый,- ответил солдат.
- А свой гороскоп ты знаешь?
- Моя жена смотрела свой гороскоп и сказала, что на этой неделе большой человек будет добр ко мне.
- У твоей жены прекрасный гороскоп,- сказал Тыонг.- Но что с ним случилось, когда она выбрала в мужья тебя?
***
В восемь тридцать они вошли в первую деревню. И тут же поступило донесение, что на северном конце деревни замечены два убегающих старика. В погоню за ними было послано подразделение, но оно явно не торопилось. Андерсон сказал себе, что это просто еще два старика, которые куда-то скрылись; однако даже это маленькое событие на какое-то время приятно взволновало его: может быть, все-таки сегодня будет бой?
На подступах к деревне он внимательно осмотрел стену леса и решил, что густая чаща деревьев и кустов справа от него - прекрасная позиция для вьетконговцев, так как оттуда открывался вид на все поле, через которое сейчас шел отряд. Андерсон приготовился открыть заградительный огонь; он сознавал, как сознавал всегда, что вьетконговцы, если они действительно прячутся там, прекрасно его видят, а из-за своего роста он является естественной мишенью. Сам он, будь положение обратным, несомненно, целился бы во вьетконговца, который возвышался бы над остальными на полторы головы.
Но вьетконговцев там не оказалось, и они вошли в деревню без единого выстрела.
Бопре сделал несколько шагов в сторону, и Андерсон проследил за ним взглядом. Бопре как будто рассматривал вход в одну из хижин, но на самом деле глядел на огромную бочку с дождевой водой, стоявшую у этой хижины. "Он думает, напиться этой воды или же налить ее себе во флягу",- решил Андерсон. Но воду могли отравить, да и в любом случае в нее придется бросить галазоновую таблетку, а они оба терпеть не могли воду, обработанную таким способом. "Нет, он сумасшедший,- думал Андерсон,- пьет виски и прочую дрянь, а потом каждый день вот так приближает себя к смерти". Андерсон заметил колебания Бопре, заметил, что тот решил все-таки не пить, и на секунду почувствовал к капитану симпатию и жалость, что случалось редко; в эту минуту Бопре был не озлобленным циником, а просто солдатом, которому хотелось пить. "Интересно,- подумал Андерсон,- сумеет ли он выдержать в следующий раз?"
- Жарко сегодня,- сказал Бопре, подходя к Андерсону, и указал на вьетнамцев.- Вот и женский корпус прибыл.
Солдаты собирали женщин на деревенской площади. Их оказалось шестеро да еще четверо детей. Из этой деревни бежали даже дети. Все женщины выглядели старухами - каждой можно было дать не меньше пятидесяти-шестидесяти лет. Когда Андерсон только приехал во Вьетнам, он думал, что им действительно столько лет. Но от Тыонга он узнал, что многим из этих женщин на самом деле не больше тридцати пяти, однако жизнь, работа, постоянные роды - а дети нередко рождаются мертвыми - состарили их, лишили женственности. Прежде красные от бетелевой жвачки зубы почернели, как гнилые тыквы, груди высохли и исчезли, словно их никогда и не было, а кожа стала не желтой и не коричневой - он не мог подобрать подходящего слова: цвет чего-то сухого, обо что можно зажигать спички. Как-то, когда ему тут все было еще внове, он сказал Тыонгу, что хотел бы понять его страну. "Если вы хотите понять нашу страну,- ответил Тыонг,- поезжайте в Сайгон, зайдите в самый новый бар, выберите самую красивую вьетнамскую проститутку, но отвезите ее не в отель, а к ней домой - в Шолон [Шолон - китайский квартал Сайгона] или где там она еще живет,- лягте с ней в постель в ее лачужке и весь вечер слушайте, как ее мать и бабка кашляют до поздней ночи. Вот тогда вы поймете мою страну".
Одна из женщин стояла в стороне от остальных, и Андерсон подошел к ней и сказал по-вьетнамски, что он очень сожалеет, если они помешали их утренней работе.
Он видел ее зубы - они были крепко сжаты. Он ей улыбнулся, но она не ответила ему улыбкой.
Он спросил, не занималась ли она стряпней и что она стряпала. Женщина даже не отвела от него взгляда. Он для нее не существовал.
Андерсон почувствовал на своем плече чью-то руку. Это был Тыонг. Он безмолвно просил Андерсона предоставить все расспросы вьетнамцам. Андерсон отошел к хижине, у стены которой стоял, прислонясь, Бопре. Он как будто заметил на лице капитана легкую усмешку. И немного смутился, так как был очень горд своими познаниями во вьетнамском языке. Он сказал Бопре, что допрос лучше предоставить вьетнамцам.
Насмешливая улыбка исчезла с лица Бопре, оно стало абсолютно непроницаемым.
- Возможно, их пугают ваши зубы,- сказал он.
"Сукин ты сын,- подумал Андерсон.- Пусть-ка днем станет еще жарче, хоть мне и самому придется несладко". Вслух же он сказал:
- А вы становитесь все больше и больше похожи на них. Даже думаете уже, как они.
***
Тыонг начал допрос без всякой охоты. Для него это была самая неприятная часть службы, и это обстоятельство отразилось на изменениях в ходе его карьеры. Когда он был еще кандидатом в офицеры, он больше всего любил допрашивать, у него это получалось лучше, чем у других,- возможно, потому, думал он, что его родители были беднее родителей других офицеров, а он старался быть образцовым офицером. Но с каждым годом эта обязанность нравилась ему все меньше и меньше, и в конце концов он проникся к ней отвращением. Это случилось два года назад, когда они вошли в деревню, которая, как они знали, была вьетконговской, и не нашли в ней ничего. Они уже собирались уходить, как вдруг мальчик лет трех посмотрел на него, расплакался, а потом побежал к дереву на берегу канала и вытащил из дупла своего отца, молодого вьетконговского офицера. Отец ни разу не взглянул на Тыонга, не сказал ему ни слова, а только подошел к мальчику и стал ласково гладить его, чтобы успокоить. А когда ребенок наконец утих, он повернулся к Тыонгу и сказал: "Ну, куда мне идти, на север или на юг? Давайте кончать". После этого случая война стала казаться ему бесконечно долгой и отвратительной. Обе воюющие стороны заставляли этих людей платить все более высокую цену, и люди замыкались в себе, и разговоры с ними все больше и больше превращались в разгадывание шарад, становились все более и более бесплодными, они говорили все больше слов, а люди - все меньше, и в конце концов допросы сделались для него самой неприятной стороной войны. Он считал, что политические работники Вьетконга должны испытывать такое же чувство, но у них, думал он, есть по крайней мере какой-то лозунг, идея, какая-то революционная цель, которая их поддерживает, есть соответствующее изречение Хо, которому они верят.
Тыонг начал допрос, опасаясь, как бы не выдать всех этих мыслей и чувств. Он пытался одновременно и успокоить, и запугать женщину, подозревая, что ни то ни другое у него не получается. Сначала он поинтересовался видами на урожай и выразил надежду, что урожай будет хороший. Он услышал ее уклончивый ответ: у лейтенанта же есть глаза и, наверно, он сам видит, он человек ученый, так пусть посмотрит и сам скажет, какой будет урожай, а она не отличит хорошего урожая от плохого - как они были бедняками, так и останутся. Он услышал собственные слова: здесь, в их части дельты, живется лучше, чем на юге под Уминем, откуда родом он сам (он долго работал над тем, чтобы избавиться от северного акцента, и его уверяли, что это ему вполне удалось). Там одни болота и дети всегда болеют. Он посмотрел вниз, на мальчика, стоявшего рядом с женщиной, и встретил взгляд, полный яростной ненависти: четырехлетний мальчик уже знал, что такое ненависть и гнев. Он услышал ее ответ: она рада, что военный господин считает, что им живется лучше. А им самим откуда знать? Только ученый человек, мудрый человек может разобраться в этом, сказала она.
Он смотрел на мальчика, удивленный его враждебностью. Сначала он чувствовал раздражение, а потом его восхитила подобная смелость. Он был бы рад, если бы его собственный сын вел себя так. Потом, заметив на бедре мальчика темный кровоподтек, он удивился и восхитился еще больше.
- Зачем вы сюда пришли?- услышал он слова женщины.
- Не потому, что нам этого хотелось,- ответил он.- Даже у такого глупого человека, как я, нашлись бы другие дела.
- Это не ваша деревня,- сказала она.- Вам тут нечего взять. Тут нет денег, нет богатых людей. Если б люди были богаты, разве они остались бы здесь жить?
- Мы пришли не за деньгами,- ответил он.
- Когда вы уйдете, мы станем еще беднее. Так бывает всегда.
- А если придут вьетконговцы? После них вы тоже будете беднее?
- Им тут нечего взять. Ни вам, ни им. Мы бедны и без вас, без вашей помощи.
Он смотрел на нее, и почему-то ему казалось (может быть, можно внушить другому свои мысли? Может быть, он это делает слишком часто?), что она не говорит того, что думает. (Почему ты с ними? Какая тебе от этого польза? Однажды его отец, которого он любил, сказал ему: "А они уже подарили тебе американский автомобиль?" А он ответил, что у него в отличие от отца нет не только автомобиля, но и мопеда).
- Есть у вас в деревне больные, нуждающиеся в лекарствах?- спросил он.- Маленькие дети?
- Они не примут ваших лекарств,- сказала она.- Здесь нет больных, которые нуждались бы в вашей помощи.
- У меня у самого трое детей,- солгал он.- И я многого лишил бы их во имя моей гордости. Но одного я не лишил бы их ни при каких обстоятельствах - лекарства. Если бы вьетконговцы оставили моей семье лекарства, я велел бы детям принять их.
Тыонг посмотрел женщине в глаза. Она сказала:
- Я уверена, что ваши дети будут здоровы.- С этими словами она повернулась и пошла прочь.
Конечно, он мог бы задержаться и попробовать сломить эту женщину, но он был реалистом. Какой смысл? В конце концов он был бы вынужден вступить в спор, рассердиться, арестовать ее, чтобы она весь день тащилась за отрядом, а на это у него не было сил. Поэтому победа осталась за ней, а он повернулся и пошел к Андерсону, сознавая, что не только вновь потерпел поражение, но, наверно, снова обидел молодого американца; американца он оттолкнул, а с женщиной потерпел неудачу - делаешь все как надо, а разницы никакой, подумал он.
Он подошел к Андерсону, что делал весьма не часто (обычно он обрывал разговор, а не начинал его), и покачал головой. Он сказал по-вьетнамски (это была его манера извиняться):
- С каждым разом все хуже.
- Вы уже бывали в этой деревне?- спросил Андерсон.
- Нет,- сказал Тыонг.- Но не все ли равно? Везде одно и то же. Всюду люди стали злее.
"Мы стали злее, противник стал злее, народ стал злее,- думал Тыонг.- С каждым днем все хуже. Крестьянка лжет мне, а в следующей деревне мне будет лгать другая крестьянка, и мы пойдем в третью деревню, и, когда там кто-нибудь начнет мне лгать, симпатичный лейтенант Тыонг, такой bien eleve [Bien eleve - благовоспитанный (фр.)], в восемь часов вспылит и допустит ошибку - арестует, например, какого-нибудь крестьянина,- а недели через две в эту же деревню в восемь часов утра придет еще кто-нибудь и удивится, почему люди там настолько озлоблены. А завтра в восемь утра я буду зол на свою первую деревню. Заколдованный круг!"
Андерсон был шестым американцем у Тыонга за три года. Шесть раз он учил одному и тому же и за это время повторялся по крайней мере шесть раз. При нормальных условиях советников должно было смениться не больше трех, но постоянно что-нибудь случалось: некоторых перевели в другие части, один не сработался с ним, а один не вынес нагрузки и немного свихнулся - начал жаловаться, будто в семинарии слишком часто кормят рисом, хотя рисом там вообще не кормили.
С каждым разом эти люди вызывали у Тыонга все меньше интереса и все больше разочаровывали его. Когда они только-только появились во Вьетнаме, а он был моложе, он верил, что от них будет толк, что именно они могут изменить то, чего никто другой изменить не мог. Как-никак они еще никогда не проигрывали войн - об этом было написано во всех учебниках (даже французских); они были сильные и богатые (гораздо богаче французов, это он знал), и он надеялся, что с ними во Вьетнам придут сила и богатство, и терпеливо ждал, когда же они изменят его страну; но сначала все оставалось по-прежнему, а потом он вдруг понял, что происходит на самом деле: они не изменяли Вьетнама, а изменялись вместе с ним, становились его частью. В конце концов Тыонг стал воспринимать слабости американцев острее, чем слабости вьетнамцев (слабости вьетнамцев казались ему обычными человеческими слабостями, но слабости американцев - чужих и не похожих на него людей - были именно американскими: пьяный вьетнамец в субботний вечер в Мито был просто пьяным, но пьяный американец был пьяным американцем; трус-вьетнамец был просто трус, но трус-американец был трусливым американцем). Первый его американец глубоко разочаровал Тыонга - он сразу проникся глубочайшей неприязнью к этому высокому грузному человеку по фамилии Рейнуотер. Он много пил, так что по утрам от него всегда разило виски, и постоянно ругал страну и жаловался на то, что войны, по его словам, вообще не было (он вечно спрашивал: "Черт побери, где же эта паршивая война, о которой вы тут болтаете, Тыонг?" И произносил он не "Тыонг", а "Ту-унг", словно присвистывая, а потом добавлял: "Как же тут воевать, если я даже не знаю, где происходит эта паршивая война?"). Он часто ругал вьетнамских женщин, ставя им в пример японок - главным образом потому, что японские проститутки говорили по-английски, а вьетнамские все еще обходились французским, он же этому языку так и не сумел выучиться. Проститутки, говорил он, иногда называют его "beaucoup kilo" [Beaucoup kilo - много килограммов (искаж. фр.)], и долго хохотал, когда Тыонг по его просьбе перевел ему эти слова. Весь год он постоянно подсчитывал, сколько ему еще остается служить здесь, и за завтраком обычно сообщал, сколько дней и часов ему еще придется тут тянуть. Он делал вид, будто удивляется, что Тыонг не думает уезжать из Вьетнама, когда кончится война - если они все-таки ее разыщут, чтобы положить ей конец. А потом сам же объяснял: "Впрочем, вы ведь из этих, из здешних". Сначала Тыонг считал его дураком и пьяницей, но в последние месяцы (а также дни и минуты) против воли проникся к нему симпатией: ему стали нравиться честность Рейнуотера, его вспышки и даже его манера называть вьетнамцев малышами - он сообщил Тыонгу, что не видывал солдат хуже вьетнамцев, даже итальянцы и те лучше. ("Если бы мне пришлось вам советовать, в какую страну вторгаться,- сказал он,- я бы назвал Италию. Но с тех пор, как я попал сюда, я уже не так в этом уверен"). Ко времени отъезда Рейнуотера они стали добрыми друзьями и, как ни удивительно, относились друг к другу с большим взаимным уважением. И тем не менее с Рейнуотером миф об американцах развеялся раз и навсегда, и теперь в глазах Тыонга они были в лучшем случае людьми, способными ошибаться. Тыонг уже не заблуждался насчет Рейнуотера и его уговоров дезертировать, потому что он, черт побери, "слишком хорош для этой войны и этой страны". Но и Рейнуотер не заблуждался насчет Тыонга и однажды, в один из своих последних дней в Мито, сказал: "Тыонг, а ты здорово себе на уме. Ты же мог бы воевать на любой стороне. Тебе плевать и на ту и на другую, верно?" Рейнуотер, ныне покинувший армию по настоянию командования, был единственным американцем, который поддерживал с Тыонгом переписку. На конвертах фамилия Тыонга была всегда написана правильно, но сами письма начинались неизменным: "Дорогой мистер Тунг!" В письмах говорилось о том, как трудно продавать подержанные автомобили в Арканзасе ("Здешние жители давно уже уволились из армии, а потому разбогатели и покупают только новые автомобили, а не старые"); о недоразумениях Рейнуотера с женой ("Эта женщина дрянь, что мне было всегда известно, но теперь она пьет больше виски, чем я, и это скверно"); о его опасениях в связи с активизацией военных действий ("Кажется, теперь эта маленькая война отыскалась. Не будь дураком и постарайся, чтоб тебя не убили и даже не ранили, потому что ты еще не навестил Рейнуотера, как обещал"). Тыонг иногда был не в силах разобрать почерк Рейнуотера и обращался за помощью к его преемникам, которые исполняли его просьбу, хотя явно не одобряли ни содержания писем, ни множества грамматических ошибок.
Другие американцы больше походили на солдат, чем Рейнуотер; по мере того как росло значение этой войны для Америки, их становилось во Вьетнаме все больше, и они были моложе, образованней, стройнее и воздержаннее по части выпивки. Они не только не подсчитывали, сколько дней им осталось служить, но нередко высказывали намерение остаться на второй срок; они добросовестно относились к своим обязанностям, всегда старательно хвалили страну и ее народ и никогда не употребляли слова "малыш" применительно к вьетнамцам. И все же разочарование Тыонга не проходило. Это были храбрые, профессионально хорошо подготовленные, но удивительно бесстрастные люди. Тыонг видел в них скорее актеров, чем солдат: они приезжали, исполненные энтузиазма, они старались, но долго не выдерживали и вскоре проникались тем же фатализмом и чувством обреченности, которые Тыонг замечал в молодых вьетнамцах, тем же фатализмом и чувством обреченности, которые он замечал в себе.
Они ничему не могли его научить - что они знали о войне, о крушении надежд или о том, как люди ведут себя в бою и как выглядят, когда умирают? Когда они все-таки давали полезные советы, которыми можно было бы воспользоваться даже при таком командире, как капитан Данг, он выслушивал их с раздражением и знал (ведь вьетнамцам было прекрасно известно, как именно смотрят на них американцы), что американцы считают его заносчивым сукиным сыном, хотя и неплохим офицером - одно время его даже звали Принцем.
Андерсон, несомненно, был лучшим из всех американских офицеров, каких встречал Тыонг,- храбрым, умным, умеющим обращаться с вьетнамскими солдатами, прилично говорящим по-вьетнамски; и точно так же Бопре, по мнению Тыонга, был самым худшим - неряшливым, беззаботным, равнодушным к своим солдатам, он презирал вьетнамцев, и, что было хуже всего, Тыонг чувствовал, что американец боится.
***
Отряд пробыл в деревне пятнадцать минут. В это время американцы по радио вызвали к аппарату Бопре. Капитан подошел к рации Андерсона.
- Как дела, старина?- спросил дежурный по КП.
- Здесь тихо,- ответил Бопре.- Если не считать шума, который поднимаем мы.
- На Восточном фронте тоже без перемен,- сказал дежурный и засмеялся своей шутке.
- Пленные есть?- спросил Бопре.
- Нет. А у вас?
- Только Андерсон и я.
- Неплохо,- сказал дежурный.- Ну, я свяжусь с вами попозже. Будьте осторожны. Полковник говорит, что опасаться худшего следует тогда, когда особенно тихо.
- Скажите от меня полковнику спасибо,- сказал Бопре.
Отряд приготовился покинуть деревню. "Скоро я смогу попить",- подумал Бопре.
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Андерсон прошел вдоль колонны, оглядывая солдат. Он услышал смех и, оглянувшись, разобрал - так ему, во всяком случае, показалось - слова одного из солдат: тот сказал, что американец проверяет, не прихватил ли кто-нибудь из них курицу. В колонне снова раздался смех. Конечно, они правы - именно это он и проверял.
- Нет,- сказал Андерсон.- Я проверял, не прихватил ли кто-нибудь из вас с собой женщину и не остался ли кто-нибудь защищать деревню.
Когда они вышли из деревни, Андерсон заметил, что походка солдат изменилась - они двигались даже медленнее обычного. Он решил подстегнуть их, расшевелить немного.
Он направился к голове колонны, покрикивая:
- Быстрее! Чем быстрее мы пойдем, тем скорее получим рис.
Солдаты засмеялись, и Андерсон спросил, поделится ли кто-нибудь из них своим рисом с бедным американцем. Они снова засмеялись, и на несколько минут Андерсону снова понравилась и страна, и его обязанности. Когда он только приехал во Вьетнам, он старался побольше разговаривать с солдатами; ободренный их смешливостью и готовностью отвечать на его шутки, он пробовал завязывать с ними серьезные разговоры, но они вдруг замыкались, смущались, отводили глаза, а если и отвечали, то виноватым тоном, словно чувствовали, что подводят его, объясняя, насколько скудной и бесхитростной была их жизнь. Кого может это интересовать? Они рождаются, вырастают, идут на военную службу, умирают. Они извинялись и отворачивались, смущенные тем, что отнимают у него столько времени, повторяя общеизвестные вещи, давая глупые ответы на глупые вопросы. К тому же он чувствовал, что Тыонга тревожат его беседы с солдатами, если они затягиваются. Поэтому теперь Андерсон ограничивался тем, что поддерживал с солдатами хорошие отношения, угощая их своей кока-колой в обмен на их рис (иногда они угощали его рисом, и он ел, насилуя себя, так как в рисе было множество каких-то непонятных черных крупинок, которые он храбро проглатывал, хотя и испытывал постоянное беспокойство, потому что не очень верил в их чистоплотность в полевых условиях).
- Живее, живее!- говорил он теперь.- Тащитесь, точно американские солдаты. Живее! Когда же мы при таком темпе доберемся до Ханоя? Мне эдак никогда не удастся познакомиться с тонкинскими девушками! Ну давайте же, а то в ханойских гостиницах не останется ни одного свободного номера и рейнджеры опередят нас. Вы же не хотите, чтобы рейнджеры занялись женщинами раньше вас? Ну так пошевеливайтесь!
Все это им очень нравилось, и Андерсон был почти уверен, что их смешат его шутки, а не его вьетнамский язык - он тщательно отрабатывал эти фразы с помощью переводчиков в семинарии, так что грамматических ошибок в них быть не могло.
- Живее!- повторял он.- Торопитесь, иначе мы не вернемся сегодня в Мито и вам придется три дня обходиться этим рисом. Живее, не то я никогда не вернусь в Америку и никогда не увижу свою жену и ей придется выйти замуж за какого-нибудь генерала.
Он раздумывал, не отпустить ли шутку-другую об их собственных женах: пусть-ка поторопятся, а не то в их постелях окажутся гарнизонные солдаты и штатские. Но он опасался, что в устах западного человека такие слова, обращенные к вьетнамцам, могут быть истолкованы как расистские и оскорбительные, а потому ограничился только шуткой об опасности, грозящей его собственной постели. Он испробовал свою шутку о вьетнамских женах на переводчиках в семинарии, и те смеялись и заверяли его, что солдаты будут довольны (переводчики относились к солдатам свысока и считали, что им понравится и обидная для них шутка). Тем не менее он решил не рисковать. Поэтому теперь он подгонял их, подбадривал и говорил только о рисе, а не об их женах.
Он продолжал обгонять колонну, пока не поравнялся с Бопре. Некоторое время они шли рядом.
- Андерсон,- сказал Бопре,- как по-вашему, мы сегодня встретим наших друзей-вьетконговцев?
- Ваш друг капитан Данг сказал мне, что мы убьем beaucoup вьетконговцев. Я верю вашему коллеге. Раз он так говорит, значит, так и будет.
- Мой друг капитан Данг - воин,- сказал Бопре.
- Вам же не понравится, если я подвергну сомнению слова вашего коллеги.
- Эти чертовы коммунисты слишком умны, чтобы лезть сегодня в драку. Они подождут, пока не спадет жара. Да, сэр, сегодня они будут посиживать и попивать свою рисовую водку вместе со своими коммунистическими дамами. У них есть радио, которое сообщает, сколько миль мы прошли и как мы потеем. Они слушают и посмеиваются, а их дамы подливают им рисовой водки. Когда в бутылке ничего не останется, дамы сбегают в лавочку и принесут новую бутылку. Они еще посмеются над нами и дождутся наступления прохлады, а затем устроят нам один из вьетконговских спектаклей. Вы думаете, я шучу, но вы когда-нибудь видели, чтобы вьетконговцы потели?
Андерсон засмеялся; он чувствовал симпатию к этому Бопре. Капитан терпел настоящую пытку: его форма потемнела от пота, по лицу тоже струился пот, но он все-таки продолжал шутить.
- Знаете, зачем мы здесь?- спросил Бопре.
- Чтобы убить beaucoup вьетконговцев, как положено хорошим американским воинам.
- Да нет же, это лишь предлог. Конечно, мы будем убивать и вьетконговцев, но на самом-то деле Данг хочет навестить своих родственников. Видите ли, его супруга родом из этих мест, и здешние жители повесили бы в ее честь мемориальную доску, увековечивающую тот факт, что она вышла замуж за капитана, да только они знают, что вьетконговцы эту доску все равно сорвут. Но у мадам Данг здесь полно родственников: ее брат - начальник полиции, а племянник женат на двоюродной сестре, дядя которой одно время был старостой деревни, какой-то деревни в этом округе, только капитан Данг забыл, какой именно, а потому мы побываем во всех трех деревнях, а может, и больше, в надежде найти эту самую деревню и этого самого старосту. Ничего не поделаешь, раз капитан Данг решил побывать в родных местах.
Бопре, видимо, намеревался продолжать эту болтовню, и Андерсон подумал, что так он заглушает жажду: возможно, он нервничает, нервничает потому, что его мучает жажда. Тут он краешком глаза заметил, что к ним приближается Тыонг, а Тыонг всегда реагировал очень болезненно, если американцы долго разговаривали между собой. Андерсон знал, что Бопре не скрывает от Тыонга своей неприязни к вьетнамцам, и ему не хотелось, чтобы его отождествляли с капитаном.
***
Андерсон был избранником судьбы. Он кончил Вест-Пойнт [Вест-Пойнт - Военная академия США, основана в 1802г.], но не настолько блестяще, чтобы в дальнейшем постоянно пугать этим своих непосредственных начальников и портить себе карьеру, и был просто хорошо обученным офицером с правильным взглядом на вещи и честолюбием, которое он умел скрывать. Впоследствии он окончил школу воздушных десантников, служил в отборных частях в Западной Германии, женился на немке, записался добровольцем во Вьетнам и изучил вьетнамский язык. Во Вьетнам он ехал с большими надеждами, но сразу же разочаровался. Его разочаровали и война, и вьетнамцы, и полковник, и Бопре.
С самого начала он проникся легкой антипатией к Бопре - они познакомились в день его приезда в семинарию. Бопре только что вернулся с операции, совершенно мокрый от пота, и, раздеваясь, демонстрировал всем соседям по комнате свои промокшие носки, рубашку, трусы - ну, словом, все. Это сцена шокировала Андерсона, он считал, что военные, тем более офицеры, не должны вести себя так.
На свою первую операцию Андерсон отправился вместе с Бопре. Полагая, что все американцы, служащие во Вьетнаме, приехали туда, как и он, добровольцами, он спросил Бопре, зачем тот приехал во Вьетнам, и Бопре сказал с большой искренностью: "Чтобы убраться подальше от жены". С тех пор отношения между ними так и не наладились. Теперь Андерсон иногда думал, что, если бы он тогда оценил Бопре по-другому, выказывал бы ему больше уважения и задавал бы ему больше вопросов, они могли бы стать почти друзьями. Но он подсознательно избегал Бопре и не садился за его стол, руководствуясь инстинктом молодого человека, который делает карьеру и которому не по пути с теми, кто ее не делает, с теми, кто, как ему твердо известно, никогда не выдвинется, кто никогда не будет майором, кто постоянно жалуется на страну и на войну. Такие люди были ему чужды, и он не собирался делить с ними их поражение.
Позже, когда стало ясно, что большую часть времени во Вьетнаме им придется провести вместе ("О такой участи,- сказал Бопре,- мечтают толпы девочек в Сеуле, Сайгоне, Париже и других местах, где мы сражались и умирали. Вам дано право проводить со мной ночи под открытым небом"), исправлять ошибку, допущенную в самом начале было уже поздно. Вместо того чтобы сесть за стол Бопре (а это все-таки был стол строевых командиров - Бопре, Ролстона и прочих), он предпочел стол таких же, как он, молодых офицеров, которых Ролстон называл кадетами. Ролстон любил говорить, что он ведь не из Аннаполиса [Аннаполис - город, где находится Военно-морская академия США]. А когда Андерсон понял, что по характеру службы ему полагалось бы сидеть за столом Бопре-Ролстона (остальные молодые офицеры были либо связистами, либо интендантами, либо еще чем-нибудь в этом роде), было уже поздно. С другой стороны, если его отталкивало отсутствие у строевых офицеров честолюбия, то они относились к нему с недоверием, потому что он был молод, честолюбив и не жаловался на страну, на армию, на войну и на питание. (Ролстон в основном жаловался на питание. Он утверждал, что вьетнамские креветки лучшие в мире, но в офицерской столовой их не подавали, потому что они считались антисанитарным продуктом. "В этой паршивой стране все антисанитарно, черт побери,- говорил он,- но креветки - единственный антисанитарный продукт, который хорош на вкус. Пусть отменят копченую говядину - ведь всем известно, да и медициной доказано, что копченая говядина в жарком климате вредна для здоровья и антисанитарна,- а дают нам креветки. Уж если у меня будет гепатит, то пусть он будет от креветок, а не от интендантских рационов").
Все же Андерсон стремился как-то наладить отношения с Бопре и время от времени заводил с ним разговор о Вьетнаме. Однажды он коснулся разницы между вьетнамцами южных и центральных областей, на что капитан заметил: "На острове все люди одинаковы". "На каком острове?" - недоуменно спросил Андерсон. "Известно на каком, на этом",- ответил Бопре. Такой поворот смутил и встревожил Андерсона: он не понимал, говорит ли Бопре серьезно или шутит, но решил не заострять на этом внимания. Однако спустя неделю он завел разговор об островах и островитянах и напомнил Бопре о его замечании, на что Бопре сказал: "Какой остров? Я никогда не бывал на островах. О чем вы говорите, черт побери? Чему вас учили там, в Вест-Пойнте?" И так бывало всегда: если лейтенант утверждал, что вьетнамцы храбрые, Бопре начинал говорить об их трусости, рассказывал одну историю за другой о том, как они удирали с поля боя; если же Андерсон намекал (он был слишком добропорядочным офицером, чтобы говорить об этом прямо), что вьетнамцы не так храбры, как ему хотелось бы, Бопре вдруг начинал превозносить героизм вьетнамцев и однажды рассказал, как вьетнамцы вынесли его, Бопре, с поля боя. (Когда недоверчивый Андерсон навел справки у Ролстона, тот не оставил от истории Бопре камня на камне, заявив: "Чтобы поднять эту жирную тушу, нужно не меньше пятнадцати вьетнамцев; к тому же, случись такое дело, Бопре не стал бы дожидаться и сам поторопился бы унести ноги, если, конечно, вьетконговцы не успели бы ампутировать их. Кроме того, он не привык скромно умалчивать о своих подвигах, а что-то он никому ничего подобного не говорил").
***
Андерсон расхаживал вдоль колонны. Солдаты шли медленно, очень медленно. Ему хотелось закричать на них, толкнуть в спину, схватить за шиворот и потащить вперед. Но вместо этого он уговаривал и подзадоривал их. Он знал, что это бесполезно, и тем не менее продолжал - не потому, что надеялся изменить их (он знал, что этого не случится, во всяком случае сегодня), а потому, что уже давно понял: надо дать выход своей энергии, иначе от их медлительности (а они, казалось ему, нарочно мелко-мелко семенили своими короткими ногами) он совсем изведется, поскольку сдерживаться всегда труднее, чем дать себе волю. Вот почему он ходил вдоль колонны и разговаривал с солдатами. Ему хотелось кричать, хватать их за шиворот, грозить военным судом, но он только повторял: "Ну, поживее! Если вы так будете ползти, я никогда не вернусь в Америку, никогда больше не увижу жену и до конца жизни останусь в Мито. Мне придется поступить во вьетнамскую армию и жениться на вьетнамке. Так идите же быстрее, выручите меня!" У него было такое ощущение, точно он тянет какую-то бесконечную песню. В частности, он именно поэтому предпочитал вертолеты: высадка, рев мотора, страх, что тебя заденут лопасти винта или подстрелят вьетконговцы, придавали человеку особую энергию, заставляли кидаться вперед. Ему казалось, что вьетнамцам тоже знакомо это чувство, что, участвуя в десантах, они становятся чуть-чуть подвижнее, чуть-чуть живей. Он считал, что вьетнамцам нравится летать на вертолетах, что они чувствуют себя похожими на американских солдат, когда взмывают в небо на машинах, пилотируемых американскими летчиками. Это вселяло, как полагал Андерсон, в сердца вьетнамцев гордость, ощущение того, что и они в конце концов стали настоящими солдатами.
Андерсон все еще злился, что его не послали с воздушным десантом. И страна, и ход военных действий, и многое другое, что он узнал во Вьетнаме,- все это настолько его разочаровало, что десантные операции начали казаться ему очень важными, они стали той частью войны, которая больше всего нравилась ему и приобрела для него особую ценность. За шесть месяцев, которые оставались ему до возвращения домой, он хотел приобрести опыт в вертолетных десантах, чтобы его зачислили во вновь сформированную авиадесантную дивизию, оснащенную исключительно вертолетами (она, по мнению Бопре, специально предназначалась для действий во Вьетнаме). Конечно, попасть в нее будет нелегко, но, если он примет участие в достаточном количестве десантных операций, это найдет свое отражение в его послужном списке - в таком случае время, проведенное во Вьетнаме, не пропадет для него зря.
Первые его дни во Вьетнаме не оставляли желать ничего лучшего. Он хотел сюда приехать, вызвался добровольцем и, желая как следует подготовиться, не воспользовался возможностью отправиться с первой же партией советников, а задержался на некоторое время, чтобы изучить вьетнамский язык. Приехав же наконец во Вьетнам, он был готов влюбиться в эту страну и ее народ. Еще когда они летели над рисовыми полями, его поразил ярко-зеленый цвет страны, и, глубоко взволнованный, он подумал: это же как в цветном кинофильме! Он никогда не забывал этого зеленого цвета и того ощущения жизни, которое этот цвет, казалось, нес с собой. Вьетнам представлялся ему гигантским садом. В аэропорту ему очень понравились хрупкие вьетнамские девушки в национальной одежде, такие стройные и вежливые, такие восточные. Он пришел в восторг, когда они ответили, едва он заговорил с ними. "Значит, люди тут не чрезмерно застенчивы",- подумал он.
В свой первый вечер в Сайгоне он не остался ужинать в гостинице вместе с другими американцами, которые, расположившись на крыше, жарили на американском древесном угле толстые американские бифштексы и пили американское пиво, а отправился один в китайский ресторан. Возвращаясь, он нарочно сел в велоколяску, а не в такси или старенький автобус, в котором полагалось ездить американцам и которым было рекомендовано пользоваться офицерам (окна автобуса были зарешечены, чтобы в них не попадали гранаты террористов, которые, как говорили, предпочитают офицеров). Андерсон был полон приятного волнения, когда его коляска, пробиваясь сквозь пестрый поток транспорта, мчалась по сайгонским улицам, едва не наталкиваясь на велосипеды, груженные фруктами, мужчин, несших корзины с живыми утками, на детей и даже коз. Был вечер, воздух немного остыл, и все вокруг словно ожило, наполнилось энергией; Андерсону хотелось кричать, слиться с этими людьми, смешать свой пот с их потом, свою радость - с их радостью (ему казалось, что все кругом тоже радуются); в конце концов он не сдержался и действительно крикнул - это был продолжительный, торжествующий вопль, испугавший рикшу, который остановился, ожидая потока ругательств за то, что он не туда повернул. Но пассажир не бранился, и рикша решил, что это просто еще один пьяный американец. И когда Андерсон в следующий раз испустил свой вопль, рикша тоже закричал в ответ, и скоро у них началась игра: то кричал Андерсон и ему вторил рикша, то кричал рикша и ему вторил Андерсон. В конце концов рикша получил самые большие в своей жизни чаевые.
Второй день в Сайгоне оказался не таким приятным. Андерсон вознамерился совершить большую экскурсию по городу и вручил шоферу такси список достопримечательностей, которые хотел бы посмотреть. Все названия он тщательно выписал по-вьетнамски. Шофер взглянул на список, улыбнулся и тронулся с места, но скоро остановился, повернулся к Андерсону и, широко улыбаясь, сказал: "Джигиди-джиг-джиг". Андерсон не понял и, озадаченно взглянув на него, спросил по-вьетнамски, что это значит. Шофер снова обернулся и еще раз - более настойчиво и с легкой ухмылкой - повторил: "Джигиди-джиг-джиг". Андерсон не понял этих слов - он думал, что шофер говорит по-вьетнамски, а шофер полагал, что говорит по-английски,- но ухмылку он понял, такая ухмылка присуща не только Востоку, а вполне интернациональна. Но когда он наконец сообразил, что к чему, шофер уже категорическим тоном сказал: "Джигиди-джиг-джиг, девочка первый класс!" - и блеснул тремя золотыми зубами - эти золотые зубы долго потом преследовали Андерсона. В конце концов, отчаявшись, он остановил машину и пошел в гостиницу пешком, всю дорогу испытывая к Сайгону глубокую неприязнь.
С тех пор Вьетнам не переставал доставлять ему огорчения. Когда его послали в Мито, Андерсон обрадовался: там по крайней мере ближе к войне. Если бы он легко смущался, то, наверно, со смущением вспоминал бы письма, которые посылал жене в первый месяц. ("Это застенчивые и щепетильные люди,- писал он,- с ними надо быть очень внимательным и тактичным. И они очень церемонны. Им нравится церемонность. Это составная часть их истории и культурных традиций. Некоторые из наших ребят держатся со своими коллегами запанибрата, хлопают их по плечу, только я не думаю, что это умно. По-моему, людям Востока в лучшем смысле этого слова подобная фамильярность не может нравиться").
Первое время ему казалось, что он способен принести реальную пользу: его вьетнамский коллега одобрил два его предложения, однако осуществление одного из них было сразу прекращено, когда первый же солдат, получивший, как он предлагал, двухдневный отпуск в Сайгон за содержание оружия в образцовом порядке, вернулся в часть только через три месяца.
Вначале Андерсону казалось, что ему удается установить контакт с вьетнамцами, и он с энтузиазмом сообщил об этом заместителю советника при командире дивизии, пожилому, всем недовольному человеку, собравшемуся в отставку. Тот выслушал восторженные излияния лейтенанта, а потом сказал только: "Не очень-то полагайтесь на них. Скверный народишко". Но Андерсон не обратил тогда внимания на слова полковника - он даже хотел написать жене, что намерен остаться во Вьетнаме на второй срок. Но потом решил повременить с этим, хотя его письма были по-прежнему полны рассказов о кротости местного населения, о добродушной веселости солдат, об очаровательных ребятишках, босоногих, голозадых и озорных, которые выпрашивают сладости, смеются и потешно выкрикивают только что выученные американские ругательства. Короче говоря, он был околдован тем, что тогда считал чистотой души народа, сохранившейся, несмотря на смерть и страдания. Эта идея возникла у него как-то на втором месяце службы, когда они прошли - миля за милей - чуть не половину провинции Диньтыонг и Бопре недовольно ворчал: "Черт побери, мы так долго идем, что, наверное, уже добрались до Камбоджи! Вы, конечно, говорите по-камбоджийски, Андерсон, так спросите-ка у первого встречного крестьянина, далеко ли до Пномпеня". Но Андерсон был в прекрасном настроении - он все еще не потерял интереса к стране, все еще радовался зеленому ландшафту и умилялся при виде крестьян, перегонявших тысячи утят из одного озерца к другому.
В тот жаркий день даже собственный пот казался ему приятным, чистым и здоровым. Они уже миновали три деревни и подходили к четвертой, когда Андерсон заметил впереди какое-то движение. Навстречу шла вереница людей, но он сразу решил, что это не вьетконговцы: так скученно вьетконговцы не ходят. Скорее, это отряд местной милиции. И тут он увидел, что это вообще не солдаты и даже не мужчины, а молодые женщины, удивительно юные и хорошенькие, одетые в пестрые аодаи таких ярких цветов, что казалось, будто на землю спустилась радуга. Теперь две колонны разделяло всего десять ярдов - солдаты, обремененные оружием, выглядели особенно неуклюжими по сравнению с изящными и грациозными девушками, которые, казалось, не шли, а плыли по воздуху. Это была уже не радуга, а балетная труппа. При их приближении Тыонг сердито прикрикнул на солдат, чтобы они молчали.
- Что это за процессия?- спросил Андерсон.
- Свадьба,- ответил Тыонг.- У нас пока еще есть время и для этого.
Когда девушки молча проходили мимо молчавших солдат, Андерсон подумал, что Тыонгу следовало бы остановить солдат, чтобы поздравить девушек, пожелать им всего наилучшего. Он был растроган и гордился своим чувством - во имя этого он и приехал в их страну. Тыонг, по-видимому, угадал мысли Андерсона, но только покачал головой и не остановился. Девушки не смотрели на солдат, они шли, потупив глаза. Но потом до Андерсона донеслось звонкое хихиканье. Андерсон был очень взволнован этой встречей, и некоторое время она символизировала для него страну и народ, а потому он вспоминал только свадебную процессию и забыл, как солдаты позади него говорили: "Вот идет последняя девственница Вьетнама".- "Нынче ночью она будет думать только о тебе, Пуонг. Погубил ты ее семейную жизнь".- "Так всегда бывает".
Первый месяц был для него самым счастливым - он смотрел, воспринимал, узнавал страну. Но к началу третьего месяца ему стало ясно, что никакого контакта установить не удалось. К этому времени между ним и Тыонгом уже сложились нынешние трудные, почти мучительные отношения - не дружба и не вражда, не отчужденность и не доверие. Иллюзия сближения рассеялась, и Андерсон примирился со скучными будничными обязанностями советника. Он уже не думал о военных победах и пытался только предотвратить полное поражение. С этим он примирился на удивление легко; подводя итоги дня, он научился замечать положительные результаты и игнорировать неудачи. И тем не менее он все чаше и чаще спрашивал себя: правильно ли он в свое время поступил, не попытавшись перейти в войска специального назначения? Те не знают, что такое неприятности с вьетнамцами, получают бешеные деньги и вообще командуют всем и всеми.
Когда он уезжал во Вьетнам, дома столько было разговора о войсках специального назначения, что все его штатские знакомые, не задумываясь, решили, будто он служит именно в этих войсках. Судя по письмам жены, разуверить их было невозможно: когда по телевидению передавали программу, посвященную войскам специального назначения, друзья обязательно звонили ей, чтобы она скорее включала телевизор - а вдруг покажут ее мужа? Андерсона это так бесило, что он послал жене подробнейшее описание функций и круга обязанностей аппарата советников и войск специального назначения. Эти его письма напоминали руководство для военнослужащих, в них указывалось, в частности, что войска специального назначения разбиты на подразделения по двенадцать человек в каждом: "два офицера, девять солдат и один телеоператор". Жена, удивленная его раздраженным тоном, добросовестно сообщила все эти сведения своим друзьям, которые столь же добросовестно продолжали звонить ей, когда по телевизору показывали войска специального назначения. Андерсон даже повесил над своей койкой длинную статью, вырезанную из одного солидного журнала, об одном большом лагере войск специального назначения, который подвергся нападению противника, после чего лейтенант из этого лагеря сказал: "Мне теперь остается получить боевой значок пехотинца". На полях Андерсон написал: "Ну так приезжай сюда, в дельту, и заработай его".
В такие минуты, как сейчас, Андерсон, подгоняя солдат, с завистью думал об этих счастливчиках, которые живут себе в горах, где нет жары, нет вьетнамцев и где маленькие горцы выполняют все, что им приказывают. Пожалуй, именно им и повезло с войной. У них совсем не то что здесь, в районе дельты, уж они-то не жалуются на медленный ход военных действий.
- Нет,- сказал Андерсон.- Я проверял, не прихватил ли кто-нибудь из вас с собой женщину и не остался ли кто-нибудь защищать деревню.
Когда они вышли из деревни, Андерсон заметил, что походка солдат изменилась - они двигались даже медленнее обычного. Он решил подстегнуть их, расшевелить немного.
Он направился к голове колонны, покрикивая:
- Быстрее! Чем быстрее мы пойдем, тем скорее получим рис.
Солдаты засмеялись, и Андерсон спросил, поделится ли кто-нибудь из них своим рисом с бедным американцем. Они снова засмеялись, и на несколько минут Андерсону снова понравилась и страна, и его обязанности. Когда он только приехал во Вьетнам, он старался побольше разговаривать с солдатами; ободренный их смешливостью и готовностью отвечать на его шутки, он пробовал завязывать с ними серьезные разговоры, но они вдруг замыкались, смущались, отводили глаза, а если и отвечали, то виноватым тоном, словно чувствовали, что подводят его, объясняя, насколько скудной и бесхитростной была их жизнь. Кого может это интересовать? Они рождаются, вырастают, идут на военную службу, умирают. Они извинялись и отворачивались, смущенные тем, что отнимают у него столько времени, повторяя общеизвестные вещи, давая глупые ответы на глупые вопросы. К тому же он чувствовал, что Тыонга тревожат его беседы с солдатами, если они затягиваются. Поэтому теперь Андерсон ограничивался тем, что поддерживал с солдатами хорошие отношения, угощая их своей кока-колой в обмен на их рис (иногда они угощали его рисом, и он ел, насилуя себя, так как в рисе было множество каких-то непонятных черных крупинок, которые он храбро проглатывал, хотя и испытывал постоянное беспокойство, потому что не очень верил в их чистоплотность в полевых условиях).
- Живее, живее!- говорил он теперь.- Тащитесь, точно американские солдаты. Живее! Когда же мы при таком темпе доберемся до Ханоя? Мне эдак никогда не удастся познакомиться с тонкинскими девушками! Ну давайте же, а то в ханойских гостиницах не останется ни одного свободного номера и рейнджеры опередят нас. Вы же не хотите, чтобы рейнджеры занялись женщинами раньше вас? Ну так пошевеливайтесь!
Все это им очень нравилось, и Андерсон был почти уверен, что их смешат его шутки, а не его вьетнамский язык - он тщательно отрабатывал эти фразы с помощью переводчиков в семинарии, так что грамматических ошибок в них быть не могло.
- Живее!- повторял он.- Торопитесь, иначе мы не вернемся сегодня в Мито и вам придется три дня обходиться этим рисом. Живее, не то я никогда не вернусь в Америку и никогда не увижу свою жену и ей придется выйти замуж за какого-нибудь генерала.
Он раздумывал, не отпустить ли шутку-другую об их собственных женах: пусть-ка поторопятся, а не то в их постелях окажутся гарнизонные солдаты и штатские. Но он опасался, что в устах западного человека такие слова, обращенные к вьетнамцам, могут быть истолкованы как расистские и оскорбительные, а потому ограничился только шуткой об опасности, грозящей его собственной постели. Он испробовал свою шутку о вьетнамских женах на переводчиках в семинарии, и те смеялись и заверяли его, что солдаты будут довольны (переводчики относились к солдатам свысока и считали, что им понравится и обидная для них шутка). Тем не менее он решил не рисковать. Поэтому теперь он подгонял их, подбадривал и говорил только о рисе, а не об их женах.
Он продолжал обгонять колонну, пока не поравнялся с Бопре. Некоторое время они шли рядом.
- Андерсон,- сказал Бопре,- как по-вашему, мы сегодня встретим наших друзей-вьетконговцев?
- Ваш друг капитан Данг сказал мне, что мы убьем beaucoup вьетконговцев. Я верю вашему коллеге. Раз он так говорит, значит, так и будет.
- Мой друг капитан Данг - воин,- сказал Бопре.
- Вам же не понравится, если я подвергну сомнению слова вашего коллеги.
- Эти чертовы коммунисты слишком умны, чтобы лезть сегодня в драку. Они подождут, пока не спадет жара. Да, сэр, сегодня они будут посиживать и попивать свою рисовую водку вместе со своими коммунистическими дамами. У них есть радио, которое сообщает, сколько миль мы прошли и как мы потеем. Они слушают и посмеиваются, а их дамы подливают им рисовой водки. Когда в бутылке ничего не останется, дамы сбегают в лавочку и принесут новую бутылку. Они еще посмеются над нами и дождутся наступления прохлады, а затем устроят нам один из вьетконговских спектаклей. Вы думаете, я шучу, но вы когда-нибудь видели, чтобы вьетконговцы потели?
Андерсон засмеялся; он чувствовал симпатию к этому Бопре. Капитан терпел настоящую пытку: его форма потемнела от пота, по лицу тоже струился пот, но он все-таки продолжал шутить.
- Знаете, зачем мы здесь?- спросил Бопре.
- Чтобы убить beaucoup вьетконговцев, как положено хорошим американским воинам.
- Да нет же, это лишь предлог. Конечно, мы будем убивать и вьетконговцев, но на самом-то деле Данг хочет навестить своих родственников. Видите ли, его супруга родом из этих мест, и здешние жители повесили бы в ее честь мемориальную доску, увековечивающую тот факт, что она вышла замуж за капитана, да только они знают, что вьетконговцы эту доску все равно сорвут. Но у мадам Данг здесь полно родственников: ее брат - начальник полиции, а племянник женат на двоюродной сестре, дядя которой одно время был старостой деревни, какой-то деревни в этом округе, только капитан Данг забыл, какой именно, а потому мы побываем во всех трех деревнях, а может, и больше, в надежде найти эту самую деревню и этого самого старосту. Ничего не поделаешь, раз капитан Данг решил побывать в родных местах.
Бопре, видимо, намеревался продолжать эту болтовню, и Андерсон подумал, что так он заглушает жажду: возможно, он нервничает, нервничает потому, что его мучает жажда. Тут он краешком глаза заметил, что к ним приближается Тыонг, а Тыонг всегда реагировал очень болезненно, если американцы долго разговаривали между собой. Андерсон знал, что Бопре не скрывает от Тыонга своей неприязни к вьетнамцам, и ему не хотелось, чтобы его отождествляли с капитаном.
***
Андерсон был избранником судьбы. Он кончил Вест-Пойнт [Вест-Пойнт - Военная академия США, основана в 1802г.], но не настолько блестяще, чтобы в дальнейшем постоянно пугать этим своих непосредственных начальников и портить себе карьеру, и был просто хорошо обученным офицером с правильным взглядом на вещи и честолюбием, которое он умел скрывать. Впоследствии он окончил школу воздушных десантников, служил в отборных частях в Западной Германии, женился на немке, записался добровольцем во Вьетнам и изучил вьетнамский язык. Во Вьетнам он ехал с большими надеждами, но сразу же разочаровался. Его разочаровали и война, и вьетнамцы, и полковник, и Бопре.
С самого начала он проникся легкой антипатией к Бопре - они познакомились в день его приезда в семинарию. Бопре только что вернулся с операции, совершенно мокрый от пота, и, раздеваясь, демонстрировал всем соседям по комнате свои промокшие носки, рубашку, трусы - ну, словом, все. Это сцена шокировала Андерсона, он считал, что военные, тем более офицеры, не должны вести себя так.
На свою первую операцию Андерсон отправился вместе с Бопре. Полагая, что все американцы, служащие во Вьетнаме, приехали туда, как и он, добровольцами, он спросил Бопре, зачем тот приехал во Вьетнам, и Бопре сказал с большой искренностью: "Чтобы убраться подальше от жены". С тех пор отношения между ними так и не наладились. Теперь Андерсон иногда думал, что, если бы он тогда оценил Бопре по-другому, выказывал бы ему больше уважения и задавал бы ему больше вопросов, они могли бы стать почти друзьями. Но он подсознательно избегал Бопре и не садился за его стол, руководствуясь инстинктом молодого человека, который делает карьеру и которому не по пути с теми, кто ее не делает, с теми, кто, как ему твердо известно, никогда не выдвинется, кто никогда не будет майором, кто постоянно жалуется на страну и на войну. Такие люди были ему чужды, и он не собирался делить с ними их поражение.
Позже, когда стало ясно, что большую часть времени во Вьетнаме им придется провести вместе ("О такой участи,- сказал Бопре,- мечтают толпы девочек в Сеуле, Сайгоне, Париже и других местах, где мы сражались и умирали. Вам дано право проводить со мной ночи под открытым небом"), исправлять ошибку, допущенную в самом начале было уже поздно. Вместо того чтобы сесть за стол Бопре (а это все-таки был стол строевых командиров - Бопре, Ролстона и прочих), он предпочел стол таких же, как он, молодых офицеров, которых Ролстон называл кадетами. Ролстон любил говорить, что он ведь не из Аннаполиса [Аннаполис - город, где находится Военно-морская академия США]. А когда Андерсон понял, что по характеру службы ему полагалось бы сидеть за столом Бопре-Ролстона (остальные молодые офицеры были либо связистами, либо интендантами, либо еще чем-нибудь в этом роде), было уже поздно. С другой стороны, если его отталкивало отсутствие у строевых офицеров честолюбия, то они относились к нему с недоверием, потому что он был молод, честолюбив и не жаловался на страну, на армию, на войну и на питание. (Ролстон в основном жаловался на питание. Он утверждал, что вьетнамские креветки лучшие в мире, но в офицерской столовой их не подавали, потому что они считались антисанитарным продуктом. "В этой паршивой стране все антисанитарно, черт побери,- говорил он,- но креветки - единственный антисанитарный продукт, который хорош на вкус. Пусть отменят копченую говядину - ведь всем известно, да и медициной доказано, что копченая говядина в жарком климате вредна для здоровья и антисанитарна,- а дают нам креветки. Уж если у меня будет гепатит, то пусть он будет от креветок, а не от интендантских рационов").
Все же Андерсон стремился как-то наладить отношения с Бопре и время от времени заводил с ним разговор о Вьетнаме. Однажды он коснулся разницы между вьетнамцами южных и центральных областей, на что капитан заметил: "На острове все люди одинаковы". "На каком острове?" - недоуменно спросил Андерсон. "Известно на каком, на этом",- ответил Бопре. Такой поворот смутил и встревожил Андерсона: он не понимал, говорит ли Бопре серьезно или шутит, но решил не заострять на этом внимания. Однако спустя неделю он завел разговор об островах и островитянах и напомнил Бопре о его замечании, на что Бопре сказал: "Какой остров? Я никогда не бывал на островах. О чем вы говорите, черт побери? Чему вас учили там, в Вест-Пойнте?" И так бывало всегда: если лейтенант утверждал, что вьетнамцы храбрые, Бопре начинал говорить об их трусости, рассказывал одну историю за другой о том, как они удирали с поля боя; если же Андерсон намекал (он был слишком добропорядочным офицером, чтобы говорить об этом прямо), что вьетнамцы не так храбры, как ему хотелось бы, Бопре вдруг начинал превозносить героизм вьетнамцев и однажды рассказал, как вьетнамцы вынесли его, Бопре, с поля боя. (Когда недоверчивый Андерсон навел справки у Ролстона, тот не оставил от истории Бопре камня на камне, заявив: "Чтобы поднять эту жирную тушу, нужно не меньше пятнадцати вьетнамцев; к тому же, случись такое дело, Бопре не стал бы дожидаться и сам поторопился бы унести ноги, если, конечно, вьетконговцы не успели бы ампутировать их. Кроме того, он не привык скромно умалчивать о своих подвигах, а что-то он никому ничего подобного не говорил").
***
Андерсон расхаживал вдоль колонны. Солдаты шли медленно, очень медленно. Ему хотелось закричать на них, толкнуть в спину, схватить за шиворот и потащить вперед. Но вместо этого он уговаривал и подзадоривал их. Он знал, что это бесполезно, и тем не менее продолжал - не потому, что надеялся изменить их (он знал, что этого не случится, во всяком случае сегодня), а потому, что уже давно понял: надо дать выход своей энергии, иначе от их медлительности (а они, казалось ему, нарочно мелко-мелко семенили своими короткими ногами) он совсем изведется, поскольку сдерживаться всегда труднее, чем дать себе волю. Вот почему он ходил вдоль колонны и разговаривал с солдатами. Ему хотелось кричать, хватать их за шиворот, грозить военным судом, но он только повторял: "Ну, поживее! Если вы так будете ползти, я никогда не вернусь в Америку, никогда больше не увижу жену и до конца жизни останусь в Мито. Мне придется поступить во вьетнамскую армию и жениться на вьетнамке. Так идите же быстрее, выручите меня!" У него было такое ощущение, точно он тянет какую-то бесконечную песню. В частности, он именно поэтому предпочитал вертолеты: высадка, рев мотора, страх, что тебя заденут лопасти винта или подстрелят вьетконговцы, придавали человеку особую энергию, заставляли кидаться вперед. Ему казалось, что вьетнамцам тоже знакомо это чувство, что, участвуя в десантах, они становятся чуть-чуть подвижнее, чуть-чуть живей. Он считал, что вьетнамцам нравится летать на вертолетах, что они чувствуют себя похожими на американских солдат, когда взмывают в небо на машинах, пилотируемых американскими летчиками. Это вселяло, как полагал Андерсон, в сердца вьетнамцев гордость, ощущение того, что и они в конце концов стали настоящими солдатами.
Андерсон все еще злился, что его не послали с воздушным десантом. И страна, и ход военных действий, и многое другое, что он узнал во Вьетнаме,- все это настолько его разочаровало, что десантные операции начали казаться ему очень важными, они стали той частью войны, которая больше всего нравилась ему и приобрела для него особую ценность. За шесть месяцев, которые оставались ему до возвращения домой, он хотел приобрести опыт в вертолетных десантах, чтобы его зачислили во вновь сформированную авиадесантную дивизию, оснащенную исключительно вертолетами (она, по мнению Бопре, специально предназначалась для действий во Вьетнаме). Конечно, попасть в нее будет нелегко, но, если он примет участие в достаточном количестве десантных операций, это найдет свое отражение в его послужном списке - в таком случае время, проведенное во Вьетнаме, не пропадет для него зря.
Первые его дни во Вьетнаме не оставляли желать ничего лучшего. Он хотел сюда приехать, вызвался добровольцем и, желая как следует подготовиться, не воспользовался возможностью отправиться с первой же партией советников, а задержался на некоторое время, чтобы изучить вьетнамский язык. Приехав же наконец во Вьетнам, он был готов влюбиться в эту страну и ее народ. Еще когда они летели над рисовыми полями, его поразил ярко-зеленый цвет страны, и, глубоко взволнованный, он подумал: это же как в цветном кинофильме! Он никогда не забывал этого зеленого цвета и того ощущения жизни, которое этот цвет, казалось, нес с собой. Вьетнам представлялся ему гигантским садом. В аэропорту ему очень понравились хрупкие вьетнамские девушки в национальной одежде, такие стройные и вежливые, такие восточные. Он пришел в восторг, когда они ответили, едва он заговорил с ними. "Значит, люди тут не чрезмерно застенчивы",- подумал он.
В свой первый вечер в Сайгоне он не остался ужинать в гостинице вместе с другими американцами, которые, расположившись на крыше, жарили на американском древесном угле толстые американские бифштексы и пили американское пиво, а отправился один в китайский ресторан. Возвращаясь, он нарочно сел в велоколяску, а не в такси или старенький автобус, в котором полагалось ездить американцам и которым было рекомендовано пользоваться офицерам (окна автобуса были зарешечены, чтобы в них не попадали гранаты террористов, которые, как говорили, предпочитают офицеров). Андерсон был полон приятного волнения, когда его коляска, пробиваясь сквозь пестрый поток транспорта, мчалась по сайгонским улицам, едва не наталкиваясь на велосипеды, груженные фруктами, мужчин, несших корзины с живыми утками, на детей и даже коз. Был вечер, воздух немного остыл, и все вокруг словно ожило, наполнилось энергией; Андерсону хотелось кричать, слиться с этими людьми, смешать свой пот с их потом, свою радость - с их радостью (ему казалось, что все кругом тоже радуются); в конце концов он не сдержался и действительно крикнул - это был продолжительный, торжествующий вопль, испугавший рикшу, который остановился, ожидая потока ругательств за то, что он не туда повернул. Но пассажир не бранился, и рикша решил, что это просто еще один пьяный американец. И когда Андерсон в следующий раз испустил свой вопль, рикша тоже закричал в ответ, и скоро у них началась игра: то кричал Андерсон и ему вторил рикша, то кричал рикша и ему вторил Андерсон. В конце концов рикша получил самые большие в своей жизни чаевые.
Второй день в Сайгоне оказался не таким приятным. Андерсон вознамерился совершить большую экскурсию по городу и вручил шоферу такси список достопримечательностей, которые хотел бы посмотреть. Все названия он тщательно выписал по-вьетнамски. Шофер взглянул на список, улыбнулся и тронулся с места, но скоро остановился, повернулся к Андерсону и, широко улыбаясь, сказал: "Джигиди-джиг-джиг". Андерсон не понял и, озадаченно взглянув на него, спросил по-вьетнамски, что это значит. Шофер снова обернулся и еще раз - более настойчиво и с легкой ухмылкой - повторил: "Джигиди-джиг-джиг". Андерсон не понял этих слов - он думал, что шофер говорит по-вьетнамски, а шофер полагал, что говорит по-английски,- но ухмылку он понял, такая ухмылка присуща не только Востоку, а вполне интернациональна. Но когда он наконец сообразил, что к чему, шофер уже категорическим тоном сказал: "Джигиди-джиг-джиг, девочка первый класс!" - и блеснул тремя золотыми зубами - эти золотые зубы долго потом преследовали Андерсона. В конце концов, отчаявшись, он остановил машину и пошел в гостиницу пешком, всю дорогу испытывая к Сайгону глубокую неприязнь.
С тех пор Вьетнам не переставал доставлять ему огорчения. Когда его послали в Мито, Андерсон обрадовался: там по крайней мере ближе к войне. Если бы он легко смущался, то, наверно, со смущением вспоминал бы письма, которые посылал жене в первый месяц. ("Это застенчивые и щепетильные люди,- писал он,- с ними надо быть очень внимательным и тактичным. И они очень церемонны. Им нравится церемонность. Это составная часть их истории и культурных традиций. Некоторые из наших ребят держатся со своими коллегами запанибрата, хлопают их по плечу, только я не думаю, что это умно. По-моему, людям Востока в лучшем смысле этого слова подобная фамильярность не может нравиться").
Первое время ему казалось, что он способен принести реальную пользу: его вьетнамский коллега одобрил два его предложения, однако осуществление одного из них было сразу прекращено, когда первый же солдат, получивший, как он предлагал, двухдневный отпуск в Сайгон за содержание оружия в образцовом порядке, вернулся в часть только через три месяца.
Вначале Андерсону казалось, что ему удается установить контакт с вьетнамцами, и он с энтузиазмом сообщил об этом заместителю советника при командире дивизии, пожилому, всем недовольному человеку, собравшемуся в отставку. Тот выслушал восторженные излияния лейтенанта, а потом сказал только: "Не очень-то полагайтесь на них. Скверный народишко". Но Андерсон не обратил тогда внимания на слова полковника - он даже хотел написать жене, что намерен остаться во Вьетнаме на второй срок. Но потом решил повременить с этим, хотя его письма были по-прежнему полны рассказов о кротости местного населения, о добродушной веселости солдат, об очаровательных ребятишках, босоногих, голозадых и озорных, которые выпрашивают сладости, смеются и потешно выкрикивают только что выученные американские ругательства. Короче говоря, он был околдован тем, что тогда считал чистотой души народа, сохранившейся, несмотря на смерть и страдания. Эта идея возникла у него как-то на втором месяце службы, когда они прошли - миля за милей - чуть не половину провинции Диньтыонг и Бопре недовольно ворчал: "Черт побери, мы так долго идем, что, наверное, уже добрались до Камбоджи! Вы, конечно, говорите по-камбоджийски, Андерсон, так спросите-ка у первого встречного крестьянина, далеко ли до Пномпеня". Но Андерсон был в прекрасном настроении - он все еще не потерял интереса к стране, все еще радовался зеленому ландшафту и умилялся при виде крестьян, перегонявших тысячи утят из одного озерца к другому.
В тот жаркий день даже собственный пот казался ему приятным, чистым и здоровым. Они уже миновали три деревни и подходили к четвертой, когда Андерсон заметил впереди какое-то движение. Навстречу шла вереница людей, но он сразу решил, что это не вьетконговцы: так скученно вьетконговцы не ходят. Скорее, это отряд местной милиции. И тут он увидел, что это вообще не солдаты и даже не мужчины, а молодые женщины, удивительно юные и хорошенькие, одетые в пестрые аодаи таких ярких цветов, что казалось, будто на землю спустилась радуга. Теперь две колонны разделяло всего десять ярдов - солдаты, обремененные оружием, выглядели особенно неуклюжими по сравнению с изящными и грациозными девушками, которые, казалось, не шли, а плыли по воздуху. Это была уже не радуга, а балетная труппа. При их приближении Тыонг сердито прикрикнул на солдат, чтобы они молчали.
- Что это за процессия?- спросил Андерсон.
- Свадьба,- ответил Тыонг.- У нас пока еще есть время и для этого.
Когда девушки молча проходили мимо молчавших солдат, Андерсон подумал, что Тыонгу следовало бы остановить солдат, чтобы поздравить девушек, пожелать им всего наилучшего. Он был растроган и гордился своим чувством - во имя этого он и приехал в их страну. Тыонг, по-видимому, угадал мысли Андерсона, но только покачал головой и не остановился. Девушки не смотрели на солдат, они шли, потупив глаза. Но потом до Андерсона донеслось звонкое хихиканье. Андерсон был очень взволнован этой встречей, и некоторое время она символизировала для него страну и народ, а потому он вспоминал только свадебную процессию и забыл, как солдаты позади него говорили: "Вот идет последняя девственница Вьетнама".- "Нынче ночью она будет думать только о тебе, Пуонг. Погубил ты ее семейную жизнь".- "Так всегда бывает".
Первый месяц был для него самым счастливым - он смотрел, воспринимал, узнавал страну. Но к началу третьего месяца ему стало ясно, что никакого контакта установить не удалось. К этому времени между ним и Тыонгом уже сложились нынешние трудные, почти мучительные отношения - не дружба и не вражда, не отчужденность и не доверие. Иллюзия сближения рассеялась, и Андерсон примирился со скучными будничными обязанностями советника. Он уже не думал о военных победах и пытался только предотвратить полное поражение. С этим он примирился на удивление легко; подводя итоги дня, он научился замечать положительные результаты и игнорировать неудачи. И тем не менее он все чаше и чаще спрашивал себя: правильно ли он в свое время поступил, не попытавшись перейти в войска специального назначения? Те не знают, что такое неприятности с вьетнамцами, получают бешеные деньги и вообще командуют всем и всеми.
Когда он уезжал во Вьетнам, дома столько было разговора о войсках специального назначения, что все его штатские знакомые, не задумываясь, решили, будто он служит именно в этих войсках. Судя по письмам жены, разуверить их было невозможно: когда по телевидению передавали программу, посвященную войскам специального назначения, друзья обязательно звонили ей, чтобы она скорее включала телевизор - а вдруг покажут ее мужа? Андерсона это так бесило, что он послал жене подробнейшее описание функций и круга обязанностей аппарата советников и войск специального назначения. Эти его письма напоминали руководство для военнослужащих, в них указывалось, в частности, что войска специального назначения разбиты на подразделения по двенадцать человек в каждом: "два офицера, девять солдат и один телеоператор". Жена, удивленная его раздраженным тоном, добросовестно сообщила все эти сведения своим друзьям, которые столь же добросовестно продолжали звонить ей, когда по телевизору показывали войска специального назначения. Андерсон даже повесил над своей койкой длинную статью, вырезанную из одного солидного журнала, об одном большом лагере войск специального назначения, который подвергся нападению противника, после чего лейтенант из этого лагеря сказал: "Мне теперь остается получить боевой значок пехотинца". На полях Андерсон написал: "Ну так приезжай сюда, в дельту, и заработай его".
В такие минуты, как сейчас, Андерсон, подгоняя солдат, с завистью думал об этих счастливчиках, которые живут себе в горах, где нет жары, нет вьетнамцев и где маленькие горцы выполняют все, что им приказывают. Пожалуй, именно им и повезло с войной. У них совсем не то что здесь, в районе дельты, уж они-то не жалуются на медленный ход военных действий.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Бопре обрадовался, когда они ушли из деревни. Он не сомневался, что эта деревня на стороне противника, и злился на всю эту опасную бессмыслицу: на то, что приходится садиться за стол с врагами, распивать с ними чаи, раздавать им лекарства, вежливо выслушивать их ложь и улыбаться, получая плевки в лицо. Все эти деревни одинаковы, у всех жителей одинаковые худые, угрюмые, подлые лица, везде та же ложь и полуложь. "Они лгут и лгут, а мы улыбаемся,- думал он.- Они ненавидят нас и с удовольствием всех бы нас перебили. Если бы немцы смотрели на нас вот так в дни второй мировой войны, мы бы стерли их в порошок". Но немцы не осмеливались смотреть на них так, это он помнил хорошо. А потом ему вспомнился сержант-еврей, который, попав впервые в немецкую деревню, собрал десять местных жителей и стал отдавать на идиш приказания: улыбайтесь, не улыбайтесь, опять улыбайтесь, хмурьтесь, плачьте, улыбайтесь. А потом сержант отошел и сам заплакал, бормоча, что мы слишком мягки, слишком добры, слишком беззлобны.
Бопре шел теперь рядом с Андерсоном, раздраженный и встревоженный.
- Черт возьми, надоело мне это терпеть: на нас тут плюют, а мы только утираемся. Они плюют нам в глаза, а когда мы уходим, хохочут и радуются, как это у них ловко получилось.
- Не считайте себя исключением,- сказал Андерсон.- По-вашему, нам, остальным, это нравится? И вьетнамцам нравится?
- Ну, вьетнамцы с этим мирятся. Они терпят, а из-за них и нам приходится терпеть. И чем больше мы терпим, тем больше плевков получаем. А вьетконговцы это видят. Вот мы идем, и они видят, что мы только утираемся, и добавляют еще, а мы терпим. И завтра будем терпеть, и чем больше терпим, тем больше они нас ненавидят. Не удивительно, что они нас совсем не уважают, черт возьми.- И он подумал с горечью, что говорят о них жители: "Вот они опять идут. Этот вежливый отряд правительственных войск. В прошлый раз они получили полную меру, и это им так понравилось, что вот они опять здесь. Беги, сынок, в хижину и неси корзину с дерьмом, что мы припасли для них".
- А мы обязаны это делать,- сказал Андерсон,- утираться, терпеть и быть вежливыми. Мы здесь для этого, и за это нам платят. Такова моя работа. И ваша работа. Вы старше меня чином, и вам платят немного больше, а потому вы и плевков получаете немного больше, чем я.
- Вы все еще этому верите!- сказал Бопре.- Неужели вы не можете понять, что люди, которые учат вас этой ерунде, сами в нее не верят? Они же первые и не верят. Разве вы не знаете, что офицер, который прочитал вам лекцию о том, что спать с вьетнамскими женщинами в маленьких городках нельзя, потому что это плохо отражается на наших отношениях с населением, сам же первый подыскивает себе вьетнамскую мышку? Его потому и назначили на это место, что он знает жизнь, как она есть на самом деле, и только он один способен прочесть вам такую лекцию не моргнув глазом. Не ужели даже этого я не сумел вам втолковать? Разве вы не знаете, что этим людям в Сайгоне плевать, приобретаем мы друзей или нет? Но их обязанность - внушить вам, что это важно, вот они и стараются.
- В этом вопросе вы должны разбираться лучше меня, капитан.
- Еще бы, черт побери! И в этом вопросе и во многих других.
- Ну конечно, и у вас твердая рука. Вы бы не допустили, чтобы вам плевали в лицо. Вы бы им показали, и, если бы они не смирились, не проявили бы к вам должного уважения и не заулыбались бы, вы поволокли бы их в Мито и каждого превратили бы во вьетконговца. Вы показали бы свою твердость, капитан.
- Их нечего превращать во вьетконговцев, они и так вьетконговцы. И были вьетконговцами, когда вы еще учились в Вест-Пойнте, лейтенант. Они стали вьетконговцами задолго до того, как вы стали тем, что вы есть.- "Тоже мне война,- подумал он,- улыбайся каждому крестьянину, будь добр, будь вежлив. Что ты сделал в этой вьетнамской войне? Убил трех вьетконговцев и расцеловал триста сорок шесть крестьян".
***
Они разошлись, недовольные друг другом и собой. Этот взрыв раздражения был неожиданным для обоих. Друзьями они, конечно, не были - этому мешала слишком большая разница в характере и образе мышления,- но, во всяком случае, уважали друг друга, подавляли в себе, насколько возможно, раздражение и неприязнь и остерегались вступать в философские споры. Правда, иногда что-то вырывалось наружу, но вспышки вроде этой были очень редки, и оба чувствовали теперь, что поступили неправильно, и оба были смущены. В этой стране хватало настоящих врагов, и ссориться было ни к чему. Поэтому они инстинктивно разошлись, чтобы немного остыть.
Бопре шагал впереди, испытывая облегчение. Во всяком случае, теперь можно было выпить воды; он понимал, что мысль о воде все время подспудно его мучила, но он выполнил данный себе зарок, и теперь каждая выигранная минута была еще одной победой. Однако пить хотелось невыносимо, и жара совсем его вымотала. Правда, ноги пока еще слушались его и не подгибались. Но жара окутывала и сжимала Бопре со всех сторон. Он был заперт в ней. Пот струился по его лицу, и, высунув язык, он мог ощутить соленые капли, пот застилал ему глаза, он чувствовал, что волосы под шляпой слиплись от пота (он начинал лысеть и считал, что во Вьетнаме волосы у него стали выпадать гораздо быстрее, так как под шляпой образуется что-то вроде паровой бани, выгоняющей волосы из пор). Темные пятна под мышками исчезли - просто остальная часть формы сравнялась по цвету и издали казалась лишь чуть темнее, чем у других. За утро к пятнам под мышками прибавилось пятно пониже спины, затем появились пятна на коленях и темная полоска по ободку шляпы. Этот процесс продолжался до тех пор, пока вся форма не промокла насквозь. Бопре взглянул на часы и прикинул, сможет ли он выдержать еще десять минут. Он решил постараться и поглядел на вьетнамцев: только у очень немногих форма чуть потемнела под мышками. Он выдержал еще шесть минут, потом открыл флягу и поднес ее ко рту. Он сам удивился тому, как жадно он глотал воду, а потом пришел в ужас, обнаружив, сколько успел выпить. Когда он завинтил флягу, она стала заметно легче.
***
Бопре взглянул на часы и вспомнил, что следовало бы поговорить с КП. Он подошел к Андерсону, который нес рацию, и велел ему связаться с дежурным. (Идея самостоятельной радиосвязи принадлежала полковнику - советники других частей, как правило, обходились вьетнамской радиосвязью, но полковник пожелал иметь свою; он знал, что вьетнамцам это не нравится, но считал, что это заставит их быть честнее, а также быстрее передвигаться, в результате чего можно будет избежать ненужных потерь). Андерсон включил рацию. Голос дежурного по КП звучал очень явственно: ни на востоке, ни на севере противник не обнаружен.
- А как вертолеты?- спросил Андерсон.
- Тоже ничего,- ответил дежурный.- Отличное приземление. Просто отличное.
- Почему же отличное?- поинтересовался Андерсон.
- Потому что ничего не произошло. Большой Уильям говорит, что для пилотов это был настоящий отдых. Все три машины сели, и ни единого выстрела. Даром деньги получат.
- Если все идет так отлично, черт побери, то где же вьетконговцы?- проворчал Бопре.
- Долгая прогулка под жарким солнцем - и все,- сказал лейтенант. Это была одна из его излюбленных фраз.
Бопре кивнул. Значит, его опасения были напрасны. Он боялся вертолетов, так как изучал войну, изучал, когда она особенно грозит смертью, и пришел к выводу, что нет ничего опаснее вертолетных десантов, приземляющихся на открытой местности, где, возможно, противник уже ждет в засаде. Аппарат советников терял не так много людей, но если случались потери, то они в большинстве случаев (Бопре был в этом уверен) имели место именно в подобные моменты. Он считал, что идти с ротой или батальоном намного безопаснее - шансов погибнуть меньше, явно меньше. И вот на этот раз он перехитрил самого себя. Его отряду предстоял более долгий переход, чем отряду, вылетевшему на вертолетах. А это означало не только более продолжительный бой со вторым противником - солнцем, но и гораздо больше шансов погибнуть, так как рейнджеры превосходили численностью его отряд и, следовательно, вероятность нападения на них была меньше.
Андерсон, насколько мог судить Бопре, обрадовался сообщению КП. Он, таким образом, ничего не потерял, не полетев с воздушным десантом. Он думал, что лишился чего-то захватывающего, но оказалось, что ровно ничего не произошло.
- Опять пустой номер,- сказал Андерсон. К возможности смерти он еще не относился с достаточным цинизмом, но уже оценивал здраво боевые операции. И Бопре иногда казалось, что со временем он, пожалуй, мог бы изменить своё отношение к Андерсону. Мог бы, если бы его жена не была такой белокурой, хорошенькой и загорелой, если бы у Андерсона была одна ее фотография, а не три, если бы она не писала лейтенанту по два раза в день и если бы перестала писать, что мечтает о его возвращении, чтобы, как доверительно сообщал ему лейтенант, забеременеть и родить двойню. А у Бопре не висело над письменным столиком никаких фотографий, и писем он почти не получал. И вообще все было неясно. Его брак был не очень удачным, и он предпочитал не думать об этом. Когда ему предложили вернуться в войска, ведущие борьбу с партизанами, он согласился - отчасти из-за своей семейной жизни: он смутно надеялся, что разлука с женой либо сблизит их, либо приведет к окончательному разрыву, хотя и не знал, чего ему больше хочется. Но теперь он пришел к выводу, что эта война, бесплодная во всех отношениях, окажется не более плодотворной и для его личных дел.
- Вы ведь не очень любите вертолеты,- сказал Андерсон.
- Да,- сказал Бопре.- Не люблю.
- Отчего?
Бопре взвесил, может ли он сказать Андерсону все - что дело не только в вертолетах, а во всех новинках этой войны. Вертолеты. Собаки-ищейки, которые якобы способны без промаха обнаруживать вьетконговцев, но которые, взбесившись от жары, кусают самих же американцев. Специалисты по очистке воды. Специалисты по психологической войне. Штатские в военной форме. Военные в штатском. Слова, которые значат как будто одно и всегда подразумевают другое. Все это, а главное - вертолеты, в которых негде укрыться, негде притулиться, потому что, где ни сядешь, твой зад все равно виден и, что еще хуже, высоко поднят, и некуда бежать... Нет, все эти новшества не для него.
- Оттого, что на вертолете противник видит вас лучше, чем вы его,- так уж они устроены. Вот проверьте, и наверняка окажется, что вертолеты изобрели коммунисты.
Он снова направился к голове колонны, а Андерсона отослал назад. Жара уже начала оказывать на него свое действие, и дело было не столько в том, что у него устали ноги, сколько в том, что теперь его радовала медлительность вьетнамцев. Он спрашивал себя, зачем он здесь, для чего принимает участие в этих операциях. Ведь предоставлял же ему полковник возможность не участвовать в них. Перспектив на повышение у него нет, так что все равно, пошел бы он на операцию или не пошел. Для его карьеры это не имеет значения, так же как не имеет значения для исхода войны. В этом отношении у него не было никаких иллюзий. И полковник предлагал ему удобный выход. Он считал, что лишен ложной гордости и все-таки идет туда, куда не хочет идти, и участвует в войне, в которой не хочет участвовать. Он ругал себя за глупость и за гордость, из-за которой очутился тут,- именно такую ложную гордость он приписывал людям вроде Андерсона. Он шел и думал о том, что полковник предлагал отозвать его; в эту минуту он мог бы сидеть на КП и по радио подбадривать рассерженных людей, шагающих где-то по полю,- спокойнее, не надрывайтесь, никто не ждет от вас невозможного!- или спорить с десантниками, доказывая им полную безопасность зоны приземления, и все время потягивать чай со льдом, который готовят по приказанию полковника (эту практику ввел еще предшественник полковника, убедившись, что сайгонские генералы, заезжая на КП, всегда просят пить, а чай со льдом все-таки лучше простой воды). Он знал, что из всех офицеров в Мито он, пожалуй, самый циничный, и все же он из горстки тех, кто ходит на операции, хотя один только он не может рассчитывать на повышение и уже имеет боевой значок пехотинца. Он снова напился, и продолжал идти вперед, и продолжал потеть. Рука его опять было потянулась за флягой, но в этот момент они вошли в полосу дождя.
Впереди серебряная полоска горизонта вдруг потемнела. Через несколько минут изменилась вся местность: где уже шел дождь, а где еще светило солнце. Потом перед ними возникла сплошная стена дождя - это был настоящий тропический ливень, и они вошли в него. Но и дождь двигался им навстречу. Бопре ступил под струи дождя, словно под душ, а слева, шагах в пятидесяти от него, никакого дождя не было. За время пребывания во Вьетнаме он не раз входил в такие ливни и всегда испытывал благоговейный страх - в такие минуты ему хотелось снова стать ребенком, чтобы это ощущение благоговейного страха стало еще сильнее. Он знал, какие страдания последуют теперь: его форма насквозь промокнет и отяжелеет, как полотенце, упавшее в наполненную ванну, а затем солнце начнет палить еще беспощаднее и высушит форму, задав ему жуткую паровую баню. А потом снова пойдет дождь, снова выглянет солнце, снова пропарит его - и опять сначала. Возможно, эта форма пытки и в моде в салонах красоты, но здесь она ни к чему. Тем не менее он готов был ей подвергнуться и радостно выругал дождь. Не замедляя шага, он задрал голову, открыл рот, ловя струи воды, и на мгновение подставил небу раскрытые ладони.
***
Из-за дождя Тыонгу стало труднее идти. Он должен был ступать на носки, а в мокрую землю надо упираться пятками. Нога по-прежнему болела, хотя меньше, чем он опасался. Однако он знал, что на следующий день она заболит сильнее, а на следующий - еще сильнее.
Позади него солдаты смеялись, вспоминая деревню, из которой они недавно ушли. Один сказал, что, если не считать беременных женщин, вьетконговцев там не было, а другой заметил, что он очень часто посещает эти места и уж наверняка произвел на свет не меньше пяти вьетконговцев. Несколько солдат засмеялись. И тогда первый солдат сообщил, что, когда они входили в деревню, женщины говорили: "Вот идет рота рядового Тхана - козлиная рота". Раздался общий хохот.
Эта деревня чем-то тревожила Тыонга, пока ои был там, однако теперь, когда они из нее ушли, тревога, как ни странно, только усилилась. Чего он не сумел уловить - это какого-то настроения, которое он осознал только после ухода. И не раньше. Они не просто держались с ними враждебно и даже презрительно, они были слишком спокойны, слишком уверены в себе, как будто знали что-то такое, чего не знал он. Они словно ожидали его прихода, ожидали допроса и даже отрепетировали ответы. Да, они встретили его и солдат чересчур уверенно и невозмутимо.
Ему с самого начала не нравилась эта операция - и не столько сама по себе, сколько из-за того, во что она могла превратиться. Ему надоело шататься по району, не обнаруживая противника и не желая его обнаруживать, и эта операция, он не сомневался, тоже сводилась к уклонению от встречи с противником под видом его поисков.
Капитан Динь, офицер разведки и один из немногих людей в штабе, к которым Тыонг относился с доверием, сообщил о передвижении отряда противника к юго-западу от Мито. По его данным, отряд находился примерно в пятнадцати километрах к югу от Мито, и его нетрудно было обнаружить. Динь был невысок ростом и застенчив, чем, по-видимому, и объяснялось его зачисление в разведку: в то время никто не придавал разведывательной службе серьезного значения и туда направляли заведомо малопригодных людей. Но сам Динь был доволен этим переводом; однажды он признался Тыонгу, что смертельно боялся, как бы его не назначили командиром строевой части: "Предположим, я отдам им какой-нибудь приказ, а они пропустят его мимо ушей и не двинутся с места. Я знаю, так все и произойдет: они посмотрят на меня и будут делать то, что им нравится. Ведь они же все старше меня". Избавленный от страшной необходимости отдавать приказы сотням соотечественников, которые дружно не стали бы их выполнять, Дииь усердно взялся за свои новые обязанности и оказался очень хорошим офицером разведки - настолько хорошим, что многих его начальников эго даже раздражало. Тыонг не без интереса наблюдал, как вначале Дннь, еще наивный, неопытный и действительно опасно добросовестный, с энтузиазмом сообщал свои данные, не понимая, что никто не желает их знать, не замечая, что, чем больше он говорит, тем меньше его слушают и с каждой минутой молчание вокруг него становится все более подчеркнутым. В конце концов Дииь научился быть хитрее и умерил свой пыл, но у него оставалась в деревнях горстка надежных осведомителей, и он упорно сохранял им верность: если эти люди рисковали собой, живя, в сущности, среди врагов, то он, Динь, заставлял высокое начальство выслушивать то, что они сообщают. Тыонга эта ситуация очень забавляла. Из всех офицеров в Мито, не имевших шансов стать майорами, Динь был первым (помимо самого Тыонга). В последний раз Динь излагал полученные им сведения спокойно и уверенно, хотя и не так категорично и убежденно, как год назад. Когда он кончил, командир дивизии полковник Ко похвалил его, а затем изложил свой план операции с кодовым названием "Счастливый зеленый цветок". Диня этот план не слишком обрадовал. "Это,- сказал он Тыонгу в частной беседе,- политическая операция, задуманная уже довольно давно и утвержденная не менее десяти дней назад". Его тревожило, что разведывательные данные, на основе которых планировалась операция, могли уже устареть да и вообще вызывали сомнения. Они были получены из источников, которым Дииь не вполне доверял, и собраны губернатором провинции, другом Ко. Диня тревожило и другое: за последние сутки поступили кое-какие новые сведения - в том числе и от агентов, которым он доверял,- говорившие о передвижении противника. Динь не знал точно, что это за передвижение и какова его цель, но счел своим долгом доложить о нем командованию. Полковник Ко сначала как будто растерялся и встревожился, но затем широко улыбнулся и заявил, что эти данные, безусловно, подтверждают правоту губернатора провинции и что операция "Счастливый зеленый цветок" уничтожит много вьетконговцев.
- Мне не нравится ваш "Зеленый цветок",- сказал Динь Тыонгу.
- Благодарю, но это ваш "Зеленый цветок",- ответил Тыонг.- Я же просто иду туда, куда велит мой офицер разведки.
- О!- сказал Динь.- Вы самый высокомерный офицер в Мито, настолько высокомерный, что позволяете себе отличаться от остальных. По сравнению с вами все они простаки.
- Я попрошу Ко, чтобы он послал вас с нами и поставил командовать отрядом,- сказал Тыонг.
Тыонг чуть ли не ликовал, представляя себе, как Ко, очень давно запланировавший операцию, вдруг в последнюю минуту узнал, что вьетконговцы, по всей вероятности, находятся именно в этом районе. Ко, безусловно, взбесился, поскольку изменить план операции теперь значило бы поставить себя в глупое положение в глазах американцев, губернатора провинции и большинства офицеров штаба.
Но тут размышления Тыонга были прерваны. Солдаты из головной части колонны привели к нему тощего старика, который, по их словам, шел на юг. Старик сразу упал па колени и что-то забормотал. Тыонг велел ему встать - он ведь не перед священником и не на исповеди. Но крестьянин только испугался еще больше и продолжал стоять на коленях. Тыонг повторил, чтобы он встал: никто его убивать не собирается, все они и без того устали.
Краем глаза Тыонг увидел приближавшегося американского лейтенанта и сделал ему знак отойти. Толстый американец, который был всегда сердит и открыто ругал вьетнамцев, не интересовался допросами, не понимал их и не любил. Тыонг улыбнулся Андерсону, чуть ли не подмигнул ему, а про себя подумал: "Ну почему ты не можешь быть таким, как твой толстый друг?" Повернувшись к крестьянину, он начал привычный разговор:
- Что-то ты слишком быстро ходишь для старика.
Старик сказал, что он человек старый и неимущий, и если он не будет ходить быстро, то станет еще беднее. Они обменялись несколькими фразами на эту тему, и старик сказал, что он ушел из Апчуньбе, оттуда уходят сегодня все жители. Нет, это не его деревня (он удивленно спросил Тыоига: разве он похож на кого-нибудь из жителей Апчуньбе?), он живет в соседней, его деревня больше. Приходил ли в его деревню Вьетконг? Нет, он не Вьетконг. Тыонг сказал, что он в этом не сомневается, и снова спросил, приходил ли Вьетконг в его деревню. Нет, не приходил. Тогда почему жители Апчуньбе ушли из своей деревни? Он не знает, это не его деревня, и ее жители с ними не разговаривают, они вообще очень странные.
- Ты не доверяешь людям из этой деревни?- спросил Тыонг.
Дa, именно так (и улыбка, выражающая почтительное изумление по поводу того, что лейтенант столь осведомлен об обеих деревнях). А в его деревне нет Вьетконга? Нет, никакого Вьетконга там нет.
- А если мы велим тебе пойти вперед проверить дорогу?
- Ваша воля, вы начальник.
Тыонг прикинул, какой процент правды был в том, что сказал старик. Может, процентов двадцать, а может, и меньше. Но что теперь правда в этой стране, можно ли ее найти, а если и можно, какое это имеет значение? Скажешь правду - тебя убьют, скроешь ее, солжешь - и, быть может, останешься жив; правда - это смертоносная роскошь. Человек хочет жить - вот она правда, и ради этого он лжет. И все, что он говорит, диктуется не честностью, а желанием урвать еще один день жизни. "Вот она - великая правда,- подумал Тыонг.- Самое главное - жить". Так что старик говорил правду: он не видел вьетконговцев, он ничего не слышал про них и ничего не может сказать. Возможно, накануне, когда в его деревню приходили вьетконговцы, он говорил ту же правду: нет, он не видел чиновников правительства, никогда не платил им налогов и ничего не слышал о правительстве.
- Почему ты говоришь одну неправду?- спросил Тыонг старика.- Ты думаешь, что я глупый? Ты думаешь, что я глупее тебя?
Он не знал, что делать дальше. Он мог бы отправить старика в голову колонны, или связать и заставить идти в хвосте, или надеть ему на шею веревку и вести, как собаку. "Но уж если ты решишь проделать это,- с некоторой горечью подумал Тыонг,- так подбери какого-нибудь крестьянина посолиднее, а не этого, этот и весит-то не больше тридцати килограммов".
Он подозвал к себе солдата и велел отпустить старика. Он понимал, что действует неправильно (согласно инструкции, ему полагалось задержать этого человека) и что у него из-за этого могут быть неприятности, но он слишком устал и не чувствовал в себе силы поступить с этим крестьянином по правилам войны и выжимать из него правду до тех пор, пока он не превратится в бесформенное месиво за несколько капель этой прекрасной правды.
Старик опять стал на колени, что-то объясняя, молясь и благодаря Тыонга, и, рассердившись, лейтенант крикнул солдату:
- Убрать его! Убрать его отсюда! Немедленно!
***
Через пять минут после того, как пленного отпустили, к лейтенанту подошел Данг и выразил надежду, что крестьянин сообщил что-то хорошее - что-то хорошее о Вьетконге.
- Что вы подразумеваете под "хорошим"?- спросил Тыонг и подумал: "Да, я высокомерен".
- То, что они близко и мы разнесем их вдребезги,- ответил Данг.
Тыонг посмотрел на капитана и подумал, что тот уже не разбирает, когда разговаривает с вьетнамцами, а когда с американцами. "Даже с вьетнамцами они разговаривают так, словно произносят речи,- подумал он.- Они окружают себя себе подобными: полковник Ко окружил себя маленькими ко, и Данг один из них, поэтому Ко произносит речи в поучение самому себе. А данги в свою очередь окружают себя дангами помоложе и пониже чином и произносят такие же речи, только, может быть, менее пышные".
- Что же он сказал?- повторил Данг свой вопрос.
- Он сказал, что никогда не встречал ни одного вьетконговца и не доверяет жителям соседней деревни.
- Он коммунист?
- Возможно. Он притворялся, что боится нас. Не знаю. Может быть, да, а может, и нет.
- Вы задержали его?
Тыонг покачал головой. Данг прекрасно знал, что пленного отпустили, но это все была игра. И Данг, конечно, сердито спросил, почему это было сделано. Отпущен коммунист, который сообщит, где они находятся, сколько у них оружия (а также где в колонне идет командир, с иронией подумал Тыонг).- Мне не хочется таскать с собой стариков. Если бы мы его задержали, нам пришлось бы идти медленней, а убивать такого старика не стоило. К тому же они, вероятно, и так знают, где мы находимся. Три наших отряда идут по направлению к одному пункту. Надо быть дураками, чтобы не догадаться, куда мы идем.
Данг пришел в ярость. Его голос стал резким и злобным, а Тыонг слушал, почти забавляясь бешенством Данга, он давно уже не боялся таких вспышек. Он слушал слова "нарушение субординации", "невнимание к моим солдатам" и смотрел на вспотевшее лицо Данга - оно блестело. "Интересно,- подумал он,- изменит ли капитан свое место в колонне?" Он слушал, как Данг заявил, что отныне будет вести все допросы сам. "Без чая и без лекарств!"- кричал Данг.
Тыонг дал капитану кончить и хотел было сказать что-нибудь высокомерное, но сказал только:
- Я уверен, мой капитан, что у вас все пойдет хорошо, и я благодарю вас.
***
- Вы что-нибудь узнали у этого крестьянина, капитан Данг?- несколько минут спустя спросил Бопре.
- Нет,- ответил Данг.- Это был простой старик. Он шел на базар, и я его отпустил.
Немного погодя к Бопре подошел Андерсон и сообщил о том, что он наполовину понял, а наполовину угадал. Он наблюдал за разговором вьетнамских офицеров и заметил, какое спокойное, почти веселое лицо было у Тыонга и как явно взбешен был Данг.
- Данг устроил Тыонгу разнос за этого пленного,- сказал Андерсон.
- Кто такой Тыонг?- спросил Бопре.
- Вьетнамский лейтенант,- ответил Андерсон.
- А, этот,- сказал Бопре.- Нахальный. Ваш напарник. Когда-нибудь,- добавил он,- если мы будем умными и храбрыми и нам повезет, мы захватим вьетконговский штаб, и не обнаружим там ни одного молодого человека. Да, сэр, никого, кроме тощих стариков и старух. Никого моложе пятидесяти. И вот тогда-то мы узнаем, что ежедневно отпускали на свободу одних только вьетконговских полковников и генералов, что каждый старый оборванец, возившийся со сломанным велосипедом, был вьетконговским генералом.
- Вы думаете, Данг прав?- спросил Андерсон.
- Этот стервец никогда не бывает прав. Пусть он даже кончит войну завтра или, что еще лучше, отправит завтра меня домой, он все равно будет не прав. Ему нужна только статистка. Он, конечно, и бесился потому, что они не убили этого беднягу крестьянина. Ведь он бы тогда наверняка сообщил по начальству, что они захватили винтовку. А лейтенант что-нибудь ответил Дангу?
Андерсон покачал головой.
- Жаль. Этот лейтенант куда лучше стервеца Данга.
- Что вы думаете о нашем положении?- спросил Андерсон.
- А вы не забыли, что я вам говорил на прошлой неделе? Вот это я и думаю: надо бы вам, мой юный герой, приобрести дополнительную страховку.
***
Бопре обрадовался, когда они ушли из деревни. Он не сомневался, что эта деревня на стороне противника, и злился на всю эту опасную бессмыслицу: на то, что приходится садиться за стол с врагами, распивать с ними чаи, раздавать им лекарства, вежливо выслушивать их ложь и улыбаться, получая плевки в лицо. Все эти деревни одинаковы, у всех жителей одинаковые худые, угрюмые, подлые лица, везде та же ложь и полуложь. "Они лгут и лгут, а мы улыбаемся,- думал он.- Они ненавидят нас и с удовольствием всех бы нас перебили. Если бы немцы смотрели на нас вот так в дни второй мировой войны, мы бы стерли их в порошок". Но немцы не осмеливались смотреть на них так, это он помнил хорошо. А потом ему вспомнился сержант-еврей, который, попав впервые в немецкую деревню, собрал десять местных жителей и стал отдавать на идиш приказания: улыбайтесь, не улыбайтесь, опять улыбайтесь, хмурьтесь, плачьте, улыбайтесь. А потом сержант отошел и сам заплакал, бормоча, что мы слишком мягки, слишком добры, слишком беззлобны.
Бопре шел теперь рядом с Андерсоном, раздраженный и встревоженный.
- Черт возьми, надоело мне это терпеть: на нас тут плюют, а мы только утираемся. Они плюют нам в глаза, а когда мы уходим, хохочут и радуются, как это у них ловко получилось.
- Не считайте себя исключением,- сказал Андерсон.- По-вашему, нам, остальным, это нравится? И вьетнамцам нравится?
- Ну, вьетнамцы с этим мирятся. Они терпят, а из-за них и нам приходится терпеть. И чем больше мы терпим, тем больше плевков получаем. А вьетконговцы это видят. Вот мы идем, и они видят, что мы только утираемся, и добавляют еще, а мы терпим. И завтра будем терпеть, и чем больше терпим, тем больше они нас ненавидят. Не удивительно, что они нас совсем не уважают, черт возьми.- И он подумал с горечью, что говорят о них жители: "Вот они опять идут. Этот вежливый отряд правительственных войск. В прошлый раз они получили полную меру, и это им так понравилось, что вот они опять здесь. Беги, сынок, в хижину и неси корзину с дерьмом, что мы припасли для них".
- А мы обязаны это делать,- сказал Андерсон,- утираться, терпеть и быть вежливыми. Мы здесь для этого, и за это нам платят. Такова моя работа. И ваша работа. Вы старше меня чином, и вам платят немного больше, а потому вы и плевков получаете немного больше, чем я.
- Вы все еще этому верите!- сказал Бопре.- Неужели вы не можете понять, что люди, которые учат вас этой ерунде, сами в нее не верят? Они же первые и не верят. Разве вы не знаете, что офицер, который прочитал вам лекцию о том, что спать с вьетнамскими женщинами в маленьких городках нельзя, потому что это плохо отражается на наших отношениях с населением, сам же первый подыскивает себе вьетнамскую мышку? Его потому и назначили на это место, что он знает жизнь, как она есть на самом деле, и только он один способен прочесть вам такую лекцию не моргнув глазом. Не ужели даже этого я не сумел вам втолковать? Разве вы не знаете, что этим людям в Сайгоне плевать, приобретаем мы друзей или нет? Но их обязанность - внушить вам, что это важно, вот они и стараются.
- В этом вопросе вы должны разбираться лучше меня, капитан.
- Еще бы, черт побери! И в этом вопросе и во многих других.
- Ну конечно, и у вас твердая рука. Вы бы не допустили, чтобы вам плевали в лицо. Вы бы им показали, и, если бы они не смирились, не проявили бы к вам должного уважения и не заулыбались бы, вы поволокли бы их в Мито и каждого превратили бы во вьетконговца. Вы показали бы свою твердость, капитан.
- Их нечего превращать во вьетконговцев, они и так вьетконговцы. И были вьетконговцами, когда вы еще учились в Вест-Пойнте, лейтенант. Они стали вьетконговцами задолго до того, как вы стали тем, что вы есть.- "Тоже мне война,- подумал он,- улыбайся каждому крестьянину, будь добр, будь вежлив. Что ты сделал в этой вьетнамской войне? Убил трех вьетконговцев и расцеловал триста сорок шесть крестьян".
***
Они разошлись, недовольные друг другом и собой. Этот взрыв раздражения был неожиданным для обоих. Друзьями они, конечно, не были - этому мешала слишком большая разница в характере и образе мышления,- но, во всяком случае, уважали друг друга, подавляли в себе, насколько возможно, раздражение и неприязнь и остерегались вступать в философские споры. Правда, иногда что-то вырывалось наружу, но вспышки вроде этой были очень редки, и оба чувствовали теперь, что поступили неправильно, и оба были смущены. В этой стране хватало настоящих врагов, и ссориться было ни к чему. Поэтому они инстинктивно разошлись, чтобы немного остыть.
Бопре шагал впереди, испытывая облегчение. Во всяком случае, теперь можно было выпить воды; он понимал, что мысль о воде все время подспудно его мучила, но он выполнил данный себе зарок, и теперь каждая выигранная минута была еще одной победой. Однако пить хотелось невыносимо, и жара совсем его вымотала. Правда, ноги пока еще слушались его и не подгибались. Но жара окутывала и сжимала Бопре со всех сторон. Он был заперт в ней. Пот струился по его лицу, и, высунув язык, он мог ощутить соленые капли, пот застилал ему глаза, он чувствовал, что волосы под шляпой слиплись от пота (он начинал лысеть и считал, что во Вьетнаме волосы у него стали выпадать гораздо быстрее, так как под шляпой образуется что-то вроде паровой бани, выгоняющей волосы из пор). Темные пятна под мышками исчезли - просто остальная часть формы сравнялась по цвету и издали казалась лишь чуть темнее, чем у других. За утро к пятнам под мышками прибавилось пятно пониже спины, затем появились пятна на коленях и темная полоска по ободку шляпы. Этот процесс продолжался до тех пор, пока вся форма не промокла насквозь. Бопре взглянул на часы и прикинул, сможет ли он выдержать еще десять минут. Он решил постараться и поглядел на вьетнамцев: только у очень немногих форма чуть потемнела под мышками. Он выдержал еще шесть минут, потом открыл флягу и поднес ее ко рту. Он сам удивился тому, как жадно он глотал воду, а потом пришел в ужас, обнаружив, сколько успел выпить. Когда он завинтил флягу, она стала заметно легче.
***
Бопре взглянул на часы и вспомнил, что следовало бы поговорить с КП. Он подошел к Андерсону, который нес рацию, и велел ему связаться с дежурным. (Идея самостоятельной радиосвязи принадлежала полковнику - советники других частей, как правило, обходились вьетнамской радиосвязью, но полковник пожелал иметь свою; он знал, что вьетнамцам это не нравится, но считал, что это заставит их быть честнее, а также быстрее передвигаться, в результате чего можно будет избежать ненужных потерь). Андерсон включил рацию. Голос дежурного по КП звучал очень явственно: ни на востоке, ни на севере противник не обнаружен.
- А как вертолеты?- спросил Андерсон.
- Тоже ничего,- ответил дежурный.- Отличное приземление. Просто отличное.
- Почему же отличное?- поинтересовался Андерсон.
- Потому что ничего не произошло. Большой Уильям говорит, что для пилотов это был настоящий отдых. Все три машины сели, и ни единого выстрела. Даром деньги получат.
- Если все идет так отлично, черт побери, то где же вьетконговцы?- проворчал Бопре.
- Долгая прогулка под жарким солнцем - и все,- сказал лейтенант. Это была одна из его излюбленных фраз.
Бопре кивнул. Значит, его опасения были напрасны. Он боялся вертолетов, так как изучал войну, изучал, когда она особенно грозит смертью, и пришел к выводу, что нет ничего опаснее вертолетных десантов, приземляющихся на открытой местности, где, возможно, противник уже ждет в засаде. Аппарат советников терял не так много людей, но если случались потери, то они в большинстве случаев (Бопре был в этом уверен) имели место именно в подобные моменты. Он считал, что идти с ротой или батальоном намного безопаснее - шансов погибнуть меньше, явно меньше. И вот на этот раз он перехитрил самого себя. Его отряду предстоял более долгий переход, чем отряду, вылетевшему на вертолетах. А это означало не только более продолжительный бой со вторым противником - солнцем, но и гораздо больше шансов погибнуть, так как рейнджеры превосходили численностью его отряд и, следовательно, вероятность нападения на них была меньше.
Андерсон, насколько мог судить Бопре, обрадовался сообщению КП. Он, таким образом, ничего не потерял, не полетев с воздушным десантом. Он думал, что лишился чего-то захватывающего, но оказалось, что ровно ничего не произошло.
- Опять пустой номер,- сказал Андерсон. К возможности смерти он еще не относился с достаточным цинизмом, но уже оценивал здраво боевые операции. И Бопре иногда казалось, что со временем он, пожалуй, мог бы изменить своё отношение к Андерсону. Мог бы, если бы его жена не была такой белокурой, хорошенькой и загорелой, если бы у Андерсона была одна ее фотография, а не три, если бы она не писала лейтенанту по два раза в день и если бы перестала писать, что мечтает о его возвращении, чтобы, как доверительно сообщал ему лейтенант, забеременеть и родить двойню. А у Бопре не висело над письменным столиком никаких фотографий, и писем он почти не получал. И вообще все было неясно. Его брак был не очень удачным, и он предпочитал не думать об этом. Когда ему предложили вернуться в войска, ведущие борьбу с партизанами, он согласился - отчасти из-за своей семейной жизни: он смутно надеялся, что разлука с женой либо сблизит их, либо приведет к окончательному разрыву, хотя и не знал, чего ему больше хочется. Но теперь он пришел к выводу, что эта война, бесплодная во всех отношениях, окажется не более плодотворной и для его личных дел.
- Вы ведь не очень любите вертолеты,- сказал Андерсон.
- Да,- сказал Бопре.- Не люблю.
- Отчего?
Бопре взвесил, может ли он сказать Андерсону все - что дело не только в вертолетах, а во всех новинках этой войны. Вертолеты. Собаки-ищейки, которые якобы способны без промаха обнаруживать вьетконговцев, но которые, взбесившись от жары, кусают самих же американцев. Специалисты по очистке воды. Специалисты по психологической войне. Штатские в военной форме. Военные в штатском. Слова, которые значат как будто одно и всегда подразумевают другое. Все это, а главное - вертолеты, в которых негде укрыться, негде притулиться, потому что, где ни сядешь, твой зад все равно виден и, что еще хуже, высоко поднят, и некуда бежать... Нет, все эти новшества не для него.
- Оттого, что на вертолете противник видит вас лучше, чем вы его,- так уж они устроены. Вот проверьте, и наверняка окажется, что вертолеты изобрели коммунисты.
Он снова направился к голове колонны, а Андерсона отослал назад. Жара уже начала оказывать на него свое действие, и дело было не столько в том, что у него устали ноги, сколько в том, что теперь его радовала медлительность вьетнамцев. Он спрашивал себя, зачем он здесь, для чего принимает участие в этих операциях. Ведь предоставлял же ему полковник возможность не участвовать в них. Перспектив на повышение у него нет, так что все равно, пошел бы он на операцию или не пошел. Для его карьеры это не имеет значения, так же как не имеет значения для исхода войны. В этом отношении у него не было никаких иллюзий. И полковник предлагал ему удобный выход. Он считал, что лишен ложной гордости и все-таки идет туда, куда не хочет идти, и участвует в войне, в которой не хочет участвовать. Он ругал себя за глупость и за гордость, из-за которой очутился тут,- именно такую ложную гордость он приписывал людям вроде Андерсона. Он шел и думал о том, что полковник предлагал отозвать его; в эту минуту он мог бы сидеть на КП и по радио подбадривать рассерженных людей, шагающих где-то по полю,- спокойнее, не надрывайтесь, никто не ждет от вас невозможного!- или спорить с десантниками, доказывая им полную безопасность зоны приземления, и все время потягивать чай со льдом, который готовят по приказанию полковника (эту практику ввел еще предшественник полковника, убедившись, что сайгонские генералы, заезжая на КП, всегда просят пить, а чай со льдом все-таки лучше простой воды). Он знал, что из всех офицеров в Мито он, пожалуй, самый циничный, и все же он из горстки тех, кто ходит на операции, хотя один только он не может рассчитывать на повышение и уже имеет боевой значок пехотинца. Он снова напился, и продолжал идти вперед, и продолжал потеть. Рука его опять было потянулась за флягой, но в этот момент они вошли в полосу дождя.
Впереди серебряная полоска горизонта вдруг потемнела. Через несколько минут изменилась вся местность: где уже шел дождь, а где еще светило солнце. Потом перед ними возникла сплошная стена дождя - это был настоящий тропический ливень, и они вошли в него. Но и дождь двигался им навстречу. Бопре ступил под струи дождя, словно под душ, а слева, шагах в пятидесяти от него, никакого дождя не было. За время пребывания во Вьетнаме он не раз входил в такие ливни и всегда испытывал благоговейный страх - в такие минуты ему хотелось снова стать ребенком, чтобы это ощущение благоговейного страха стало еще сильнее. Он знал, какие страдания последуют теперь: его форма насквозь промокнет и отяжелеет, как полотенце, упавшее в наполненную ванну, а затем солнце начнет палить еще беспощаднее и высушит форму, задав ему жуткую паровую баню. А потом снова пойдет дождь, снова выглянет солнце, снова пропарит его - и опять сначала. Возможно, эта форма пытки и в моде в салонах красоты, но здесь она ни к чему. Тем не менее он готов был ей подвергнуться и радостно выругал дождь. Не замедляя шага, он задрал голову, открыл рот, ловя струи воды, и на мгновение подставил небу раскрытые ладони.
***
Из-за дождя Тыонгу стало труднее идти. Он должен был ступать на носки, а в мокрую землю надо упираться пятками. Нога по-прежнему болела, хотя меньше, чем он опасался. Однако он знал, что на следующий день она заболит сильнее, а на следующий - еще сильнее.
Позади него солдаты смеялись, вспоминая деревню, из которой они недавно ушли. Один сказал, что, если не считать беременных женщин, вьетконговцев там не было, а другой заметил, что он очень часто посещает эти места и уж наверняка произвел на свет не меньше пяти вьетконговцев. Несколько солдат засмеялись. И тогда первый солдат сообщил, что, когда они входили в деревню, женщины говорили: "Вот идет рота рядового Тхана - козлиная рота". Раздался общий хохот.
Эта деревня чем-то тревожила Тыонга, пока ои был там, однако теперь, когда они из нее ушли, тревога, как ни странно, только усилилась. Чего он не сумел уловить - это какого-то настроения, которое он осознал только после ухода. И не раньше. Они не просто держались с ними враждебно и даже презрительно, они были слишком спокойны, слишком уверены в себе, как будто знали что-то такое, чего не знал он. Они словно ожидали его прихода, ожидали допроса и даже отрепетировали ответы. Да, они встретили его и солдат чересчур уверенно и невозмутимо.
Ему с самого начала не нравилась эта операция - и не столько сама по себе, сколько из-за того, во что она могла превратиться. Ему надоело шататься по району, не обнаруживая противника и не желая его обнаруживать, и эта операция, он не сомневался, тоже сводилась к уклонению от встречи с противником под видом его поисков.
Капитан Динь, офицер разведки и один из немногих людей в штабе, к которым Тыонг относился с доверием, сообщил о передвижении отряда противника к юго-западу от Мито. По его данным, отряд находился примерно в пятнадцати километрах к югу от Мито, и его нетрудно было обнаружить. Динь был невысок ростом и застенчив, чем, по-видимому, и объяснялось его зачисление в разведку: в то время никто не придавал разведывательной службе серьезного значения и туда направляли заведомо малопригодных людей. Но сам Динь был доволен этим переводом; однажды он признался Тыонгу, что смертельно боялся, как бы его не назначили командиром строевой части: "Предположим, я отдам им какой-нибудь приказ, а они пропустят его мимо ушей и не двинутся с места. Я знаю, так все и произойдет: они посмотрят на меня и будут делать то, что им нравится. Ведь они же все старше меня". Избавленный от страшной необходимости отдавать приказы сотням соотечественников, которые дружно не стали бы их выполнять, Дииь усердно взялся за свои новые обязанности и оказался очень хорошим офицером разведки - настолько хорошим, что многих его начальников эго даже раздражало. Тыонг не без интереса наблюдал, как вначале Дннь, еще наивный, неопытный и действительно опасно добросовестный, с энтузиазмом сообщал свои данные, не понимая, что никто не желает их знать, не замечая, что, чем больше он говорит, тем меньше его слушают и с каждой минутой молчание вокруг него становится все более подчеркнутым. В конце концов Дииь научился быть хитрее и умерил свой пыл, но у него оставалась в деревнях горстка надежных осведомителей, и он упорно сохранял им верность: если эти люди рисковали собой, живя, в сущности, среди врагов, то он, Динь, заставлял высокое начальство выслушивать то, что они сообщают. Тыонга эта ситуация очень забавляла. Из всех офицеров в Мито, не имевших шансов стать майорами, Динь был первым (помимо самого Тыонга). В последний раз Динь излагал полученные им сведения спокойно и уверенно, хотя и не так категорично и убежденно, как год назад. Когда он кончил, командир дивизии полковник Ко похвалил его, а затем изложил свой план операции с кодовым названием "Счастливый зеленый цветок". Диня этот план не слишком обрадовал. "Это,- сказал он Тыонгу в частной беседе,- политическая операция, задуманная уже довольно давно и утвержденная не менее десяти дней назад". Его тревожило, что разведывательные данные, на основе которых планировалась операция, могли уже устареть да и вообще вызывали сомнения. Они были получены из источников, которым Дииь не вполне доверял, и собраны губернатором провинции, другом Ко. Диня тревожило и другое: за последние сутки поступили кое-какие новые сведения - в том числе и от агентов, которым он доверял,- говорившие о передвижении противника. Динь не знал точно, что это за передвижение и какова его цель, но счел своим долгом доложить о нем командованию. Полковник Ко сначала как будто растерялся и встревожился, но затем широко улыбнулся и заявил, что эти данные, безусловно, подтверждают правоту губернатора провинции и что операция "Счастливый зеленый цветок" уничтожит много вьетконговцев.
- Мне не нравится ваш "Зеленый цветок",- сказал Динь Тыонгу.
- Благодарю, но это ваш "Зеленый цветок",- ответил Тыонг.- Я же просто иду туда, куда велит мой офицер разведки.
- О!- сказал Динь.- Вы самый высокомерный офицер в Мито, настолько высокомерный, что позволяете себе отличаться от остальных. По сравнению с вами все они простаки.
- Я попрошу Ко, чтобы он послал вас с нами и поставил командовать отрядом,- сказал Тыонг.
Тыонг чуть ли не ликовал, представляя себе, как Ко, очень давно запланировавший операцию, вдруг в последнюю минуту узнал, что вьетконговцы, по всей вероятности, находятся именно в этом районе. Ко, безусловно, взбесился, поскольку изменить план операции теперь значило бы поставить себя в глупое положение в глазах американцев, губернатора провинции и большинства офицеров штаба.
Но тут размышления Тыонга были прерваны. Солдаты из головной части колонны привели к нему тощего старика, который, по их словам, шел на юг. Старик сразу упал па колени и что-то забормотал. Тыонг велел ему встать - он ведь не перед священником и не на исповеди. Но крестьянин только испугался еще больше и продолжал стоять на коленях. Тыонг повторил, чтобы он встал: никто его убивать не собирается, все они и без того устали.
Краем глаза Тыонг увидел приближавшегося американского лейтенанта и сделал ему знак отойти. Толстый американец, который был всегда сердит и открыто ругал вьетнамцев, не интересовался допросами, не понимал их и не любил. Тыонг улыбнулся Андерсону, чуть ли не подмигнул ему, а про себя подумал: "Ну почему ты не можешь быть таким, как твой толстый друг?" Повернувшись к крестьянину, он начал привычный разговор:
- Что-то ты слишком быстро ходишь для старика.
Старик сказал, что он человек старый и неимущий, и если он не будет ходить быстро, то станет еще беднее. Они обменялись несколькими фразами на эту тему, и старик сказал, что он ушел из Апчуньбе, оттуда уходят сегодня все жители. Нет, это не его деревня (он удивленно спросил Тыоига: разве он похож на кого-нибудь из жителей Апчуньбе?), он живет в соседней, его деревня больше. Приходил ли в его деревню Вьетконг? Нет, он не Вьетконг. Тыонг сказал, что он в этом не сомневается, и снова спросил, приходил ли Вьетконг в его деревню. Нет, не приходил. Тогда почему жители Апчуньбе ушли из своей деревни? Он не знает, это не его деревня, и ее жители с ними не разговаривают, они вообще очень странные.
- Ты не доверяешь людям из этой деревни?- спросил Тыонг.
Дa, именно так (и улыбка, выражающая почтительное изумление по поводу того, что лейтенант столь осведомлен об обеих деревнях). А в его деревне нет Вьетконга? Нет, никакого Вьетконга там нет.
- А если мы велим тебе пойти вперед проверить дорогу?
- Ваша воля, вы начальник.
Тыонг прикинул, какой процент правды был в том, что сказал старик. Может, процентов двадцать, а может, и меньше. Но что теперь правда в этой стране, можно ли ее найти, а если и можно, какое это имеет значение? Скажешь правду - тебя убьют, скроешь ее, солжешь - и, быть может, останешься жив; правда - это смертоносная роскошь. Человек хочет жить - вот она правда, и ради этого он лжет. И все, что он говорит, диктуется не честностью, а желанием урвать еще один день жизни. "Вот она - великая правда,- подумал Тыонг.- Самое главное - жить". Так что старик говорил правду: он не видел вьетконговцев, он ничего не слышал про них и ничего не может сказать. Возможно, накануне, когда в его деревню приходили вьетконговцы, он говорил ту же правду: нет, он не видел чиновников правительства, никогда не платил им налогов и ничего не слышал о правительстве.
- Почему ты говоришь одну неправду?- спросил Тыонг старика.- Ты думаешь, что я глупый? Ты думаешь, что я глупее тебя?
Он не знал, что делать дальше. Он мог бы отправить старика в голову колонны, или связать и заставить идти в хвосте, или надеть ему на шею веревку и вести, как собаку. "Но уж если ты решишь проделать это,- с некоторой горечью подумал Тыонг,- так подбери какого-нибудь крестьянина посолиднее, а не этого, этот и весит-то не больше тридцати килограммов".
Он подозвал к себе солдата и велел отпустить старика. Он понимал, что действует неправильно (согласно инструкции, ему полагалось задержать этого человека) и что у него из-за этого могут быть неприятности, но он слишком устал и не чувствовал в себе силы поступить с этим крестьянином по правилам войны и выжимать из него правду до тех пор, пока он не превратится в бесформенное месиво за несколько капель этой прекрасной правды.
Старик опять стал на колени, что-то объясняя, молясь и благодаря Тыонга, и, рассердившись, лейтенант крикнул солдату:
- Убрать его! Убрать его отсюда! Немедленно!
***
Через пять минут после того, как пленного отпустили, к лейтенанту подошел Данг и выразил надежду, что крестьянин сообщил что-то хорошее - что-то хорошее о Вьетконге.
- Что вы подразумеваете под "хорошим"?- спросил Тыонг и подумал: "Да, я высокомерен".
- То, что они близко и мы разнесем их вдребезги,- ответил Данг.
Тыонг посмотрел на капитана и подумал, что тот уже не разбирает, когда разговаривает с вьетнамцами, а когда с американцами. "Даже с вьетнамцами они разговаривают так, словно произносят речи,- подумал он.- Они окружают себя себе подобными: полковник Ко окружил себя маленькими ко, и Данг один из них, поэтому Ко произносит речи в поучение самому себе. А данги в свою очередь окружают себя дангами помоложе и пониже чином и произносят такие же речи, только, может быть, менее пышные".
- Что же он сказал?- повторил Данг свой вопрос.
- Он сказал, что никогда не встречал ни одного вьетконговца и не доверяет жителям соседней деревни.
- Он коммунист?
- Возможно. Он притворялся, что боится нас. Не знаю. Может быть, да, а может, и нет.
- Вы задержали его?
Тыонг покачал головой. Данг прекрасно знал, что пленного отпустили, но это все была игра. И Данг, конечно, сердито спросил, почему это было сделано. Отпущен коммунист, который сообщит, где они находятся, сколько у них оружия (а также где в колонне идет командир, с иронией подумал Тыонг).- Мне не хочется таскать с собой стариков. Если бы мы его задержали, нам пришлось бы идти медленней, а убивать такого старика не стоило. К тому же они, вероятно, и так знают, где мы находимся. Три наших отряда идут по направлению к одному пункту. Надо быть дураками, чтобы не догадаться, куда мы идем.
Данг пришел в ярость. Его голос стал резким и злобным, а Тыонг слушал, почти забавляясь бешенством Данга, он давно уже не боялся таких вспышек. Он слушал слова "нарушение субординации", "невнимание к моим солдатам" и смотрел на вспотевшее лицо Данга - оно блестело. "Интересно,- подумал он,- изменит ли капитан свое место в колонне?" Он слушал, как Данг заявил, что отныне будет вести все допросы сам. "Без чая и без лекарств!"- кричал Данг.
Тыонг дал капитану кончить и хотел было сказать что-нибудь высокомерное, но сказал только:
- Я уверен, мой капитан, что у вас все пойдет хорошо, и я благодарю вас.
***
- Вы что-нибудь узнали у этого крестьянина, капитан Данг?- несколько минут спустя спросил Бопре.
- Нет,- ответил Данг.- Это был простой старик. Он шел на базар, и я его отпустил.
Немного погодя к Бопре подошел Андерсон и сообщил о том, что он наполовину понял, а наполовину угадал. Он наблюдал за разговором вьетнамских офицеров и заметил, какое спокойное, почти веселое лицо было у Тыонга и как явно взбешен был Данг.
- Данг устроил Тыонгу разнос за этого пленного,- сказал Андерсон.
- Кто такой Тыонг?- спросил Бопре.
- Вьетнамский лейтенант,- ответил Андерсон.
- А, этот,- сказал Бопре.- Нахальный. Ваш напарник. Когда-нибудь,- добавил он,- если мы будем умными и храбрыми и нам повезет, мы захватим вьетконговский штаб, и не обнаружим там ни одного молодого человека. Да, сэр, никого, кроме тощих стариков и старух. Никого моложе пятидесяти. И вот тогда-то мы узнаем, что ежедневно отпускали на свободу одних только вьетконговских полковников и генералов, что каждый старый оборванец, возившийся со сломанным велосипедом, был вьетконговским генералом.
- Вы думаете, Данг прав?- спросил Андерсон.
- Этот стервец никогда не бывает прав. Пусть он даже кончит войну завтра или, что еще лучше, отправит завтра меня домой, он все равно будет не прав. Ему нужна только статистка. Он, конечно, и бесился потому, что они не убили этого беднягу крестьянина. Ведь он бы тогда наверняка сообщил по начальству, что они захватили винтовку. А лейтенант что-нибудь ответил Дангу?
Андерсон покачал головой.
- Жаль. Этот лейтенант куда лучше стервеца Данга.
- Что вы думаете о нашем положении?- спросил Андерсон.
- А вы не забыли, что я вам говорил на прошлой неделе? Вот это я и думаю: надо бы вам, мой юный герой, приобрести дополнительную страховку.
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Они продолжали идти под жарким, неумолимым солнцем, и утро заволакивалось тупой скукой, которая отнимала у них столько времени и сил. Солнце давило на них, и они не разговаривали друг с другом, потому что говорить было не о чем. Жалобы на жару не могли ни умерить ее, ни отвлечь их мысли - жара была слишком сильна, и они думали только о ней и шли, шли машинально, почти на грани безумия, а время текло медленно и давило их. Они переставляли ноги, не сознавая, что идут.
Жара оставалась жарой, и никто ничего не мог изменить. Когда Бопре еще только приехал, он вместе с другими советниками добивался согласия полковника на то, чтобы операции проводились не в дневное, а в ночное время. Однако добивался он этого совсем не из тех побуждений, что остальные - молодые, горячие офицеры, которые доказывали, что противник предпочитает передвигаться и атаковать ночью и поэтому им следует делать то же. Бопре в принципе был с этим согласен, но сам он думал вовсе не о том, чтобы гоняться за маленькими вьетконговцами, которые ночью расхаживают без всяких опасений,- он думал о ночной прохладе и о том, что ночью на марше не придется раз за разом умирать от жары. И когда полковник спросил его мнение, он сказал: "Конечно, почему бы и нет?" Полковник, опытный офицер, продолжал сомневаться и все спрашивал, действительно ли они к этому подготовлены, потому что неудача может привести к самым тяжелым последствиям. Но молодые офицеры были уверены в своей правоте: они обсудили эту идею со своими вьетнамскими коллегами, и те единодушно поддержали ее. Словом, за ночные операции были как будто все, кроме полковника (что отнюдь не объясняло, почему никто еще не испробовал этого раньше). В конце концов полковник сдался, уговорил Ко, и Бопре получил возможность наслаждаться на марше ночной прохладой. Но оказалось, что полковник был все-таки прав: они не были готовы к ночным операциям, и затея эта кончилась крахом. Ночная тьма только выявила все их слабости: батальоны отрывались от полков, роты - от батальонов, взводы - от рот. Потом в течение нескольких дней на базу в одиночку и группами возвращались заблудившиеся солдаты, и никогда - ни до, ни после - число дезертиров не было так велико. В кромешной тьме войска брели вслепую неизвестно куда, и один советник батальона, человек в этих местах новый, в ответ на запрос по радио, где они находятся, ответил: "У деревни Аптиенлыок - так написано на дощечке-указателе". Этот ответ передали полковнику, который до того сохранял спокойствие и выдержку, а тут вдруг почувствовал, что в глазах Сайгона виноват в случившемся будет он, а не молодые офицеры, и в бешенстве закричал радисту: "Скажите этому дураку, что как в Штатах надпись "Осторожно, пешеходы" вовсе не означает, что это название данного места, так и тут "Аптиенлыок" перед каждой деревней всего-навсего значит: "Стратегический пункт".
Полковнику ночная операция не доставила никакого удовольствия, как и Бопре. Отсутствие солнца не компенсировало всего прочего: Бопре устал, его жрали москиты и мучил страх, что ему нечаянно выстрелит в спину кто-нибудь из его же отряда или уложит наповал, скажем, Ролстон, если они натолкнутся на другой батальон. Благодаря этой ночной операции терпеть дневные стало чуть легче.
От жары страдал не он один. Андерсону тоже приходилось нелегко, но для Бопре даже ходьба представляла проблему. Он то и дело прикладывался к фляге, потеряв всякую выдержку и забыв о собственных правилах. Жара начинала не на шутку тревожить его. Правда, головокружения еще не было, но он потерял уверенность в себе и боялся думать о том, как может кончиться этот день. Теперь они дошли до сложной сети каналов, тянувшихся между деревнями, и Бопре почувствовал особенную усталость, словно он вбирал в себя всю энергию солнца и потом ее излучал. Вместо мостков через узенькие каналы были переброшены скользкие жерди. Именно эту часть пути Бопре ненавидел больше всего. По этим ненадежным мосткам нужно было ступать быстро, ни на секунду не замедляя шага. Если канал был пошире, вьетнамцы втыкали сбоку от мостика шест и, переходя, хватались за него. Бопре терпеть не мог эти проклятые мостики - человек его сложения выглядел на них смешно. ("Нужно только, капитан,- говорил ему полковник, не щадивший его в первые дни,- вообразить себя балериной, и все сразу станет очень просто"). Бопре не раз уже срывался с этих мостков. С самого начала ему казалось обидным и унизительным, что человеку его возраста приходится, согнувшись, неуклюже балансируя, бежать по тоненькой жердочке, изображая грациозную походку, а потом со всего размаха плюхаться в воду на глазах у хихикающих солдат. ("У этих коротышек,- думал он,- центр тяжести расположен ниже, не будь они такими плюгавыми, они бы так не смеялись"). Он считал, что нельзя ставить человека его возраста в столь дурацкое положение. Это уж его дело, когда, где и как строить из себя дурака.
Первый из трех каналов он перешел благополучно (идя по мостику, он взглянул на сложную сеть каналов и подумал, что это идеальное место для засады: отряд не мог бы продвинуться ни на шаг, пришлось бы подставлять под пули солдата за солдатом - один мертвый солдат за другим). Но он устал и на втором мостике допустил ужасную ошибку - посмотрел себе под ноги и подумал, что может упасть. Внизу текла вода - мутная, грязная, теплая, отвратительная жидкость, полная нечистот. Он покачнулся и едва не упал.
Третий канал был немного шире первых двух, и Бопре начал нервничать еще до того, как ступил на мостик. Вьетнамцы двигались по жердям медленно, так что образовалась пробка, и Бопре пришлось остановиться; дожидаясь очереди, он посмотрел на шаткий мостик, скользкий от грязи с солдатских подошв. Он простоял так слишком долго и когда наконец сошел на мостик, то словно под воздействием самовнушения покачнулся, сорвался с жерди и упал в воду - это произошло как-то не сразу, и, прежде чем коснуться плечом воды, он успел протянуть одну руку вниз, а другую, с пистолетом, поднять. Он ушел с головой в теплую грязную жижу и, хотя попытался плотно сжать губы, все-таки хлебнул воды. Он вынырнул, отчаянно отплевываясь, откашливаясь и проклиная каналы, мостики, воду и всю эту страну (себя самого он проклинал очень редко). Он был взбешен, форма его пропиталась грязной, теплой водой, которая не освежала, несмотря на жару. Он поглядел на вьетнамцев, все еще стоявших на мостике, но они молчали. Сердито хмурясь, он вылез на берег и пошел было дальше, как вдруг заметил, что потерял свой пистолет (собственно говоря, не свой, а Ролстона: они обменялись пистолетами, потому что Ролстону понравился его люгер; в обойме ролстоновского кольта было всего два патрона, Бопре потребовал еще четыре, но Ролстон сказал, что хватит ему и двух - один для вьетконговца и один для себя). Бопре с отвращением снова спустился в грязную воду - он никогда раньше не думал, что вода в канале может быть такой теплой,- и, присев на корточки, начал шарить рукой по дну: окунаться с головой он ни за что не хотел. Но пальцы его хватали один ил. Тогда с мостика спрыгнул солдат и вопросительно посмотрел на Бопре. Тот жестами показал, что ищет пистолет, и вьетнамец, точно водолаз, ушел под воду. Через секунду он вынырнул, гордо держа пистолет. Бопре, еще острее почувствовав унизительность своего положения, неуклюже поблагодарил его и впервые сообразил, что не знает, как по-вьетнамски "спасибо". Он сунул было руку в карман за деньгами, но тут же решил, что это будет еще хуже. Он улыбнулся солдату, и тот ответил ему улыбкой. Бопре чувствовал себя старым и глупым. Он пошел дальше, но походка его уже не была такой самоуверенной. Солнце высасывало теплую воду из его одежды. Потом он подумал, что ему еще повезло: не хватись он тотчас, пришлось бы объяснять Ролстону, куда девался кольт и эти два патрона. Он так и не дозарядил обойму.
Бопре достал флягу и прополоскал рот, израсходовав часть драгоценной влаги. Он даже не был уверен, что во рту у него действительно дурной вкус, но так ему казалось, а остальное не имело значения. Он выплюнул воду. Фляга катастрофически пустела - он видел это по наклону, когда подносил флягу ко рту. Осталось, видимо, не более трети. Надо было взять запасную флягу. Это определенно имело смысл: во время второй мировой войны на юге Тихого океана солдаты носили по две фляги, правда, они никогда не знали, сколько им придется ждать, пока подвезут воду. Однако в семинарии никто с двумя флягами не ходил, так что он вновь страдал из-за своей ложной гордости. А ведь как просто - взять две фляги.
Бопре попросил Андерсона связаться с КП. Дежурный сообщил, что все идет прекрасно, без сучка и задоринки. И пока никто ничего не напутал. (Бопре уловил в этих словах намек на то, что все пройдет гладко, если Данг и Бопре ничего не напутают).
- Как там Ролстон?- спросил Бопре.
- Несколько старух по обыкновению обозлились на наших дружков и набросились на них, а Ролстон решил разыграть из себя мудрого судью и помирить их, да только эти бабы чуть не выцарапали ему глаза. Говорит, никогда еще не видел, чтобы женщины так злобствовали, по сравнению с ними даже собственная супруга показалась ему настоящей леди. Тут он взбесился и трех из них арестовал. Говорит, что страху натерпелся, как никогда в жизни; он им кричит: "Я ваш друг, я ваш друг, я добрый американец!"- а они все равно лезут на него. Да, кстати, он просил вам кое-что передать. Будете слушать?
Бопре сказал, что будет.
- Ролстон просит передать, что у него там чертовски жарко, и спрашивает, как дела у вас. Он договорился с полковником, что вернется на базу на вертолете, если будет дополнительный рейс, а вы пешком дойдете. Говорит, что вы поймете его, поскольку вы с ним приятели.
- Ладно,- сказал Бопре.- Так ему и передайте. Пусть пролетают над нами, чтобы мы могли их по-дружески приветствовать.
- Полковник тоже о вас справлялся,- сказал дежурный.- Спрашивал, как дела и все ли в порядке. Я сказал, что все хорошо и вы, как всегда, полны бодрости, но он, кажется, немного беспокоится. Просил ему сообщить, если жара вас совсем замучает.
- Скажите ему, чтоб не беспокоился. Жара как жара,- сказал Бопре, но позже он усомнился в правильности такого ответа: пожалуй, лучше было бы вернуться санитарным вертолетом. И еще он подумал о том, не сказал ли чего-нибудь Андерсон полковнику.
***
Они продолжали идти, и Бопре смотрел на солдат с невольным уважением. Они словно не замечали жары. Она их не угнетала. "Как будто вышли на прогулку",- подумал сн. У солдат была с собой еда, и кое-кто уже начал пощипывать холодный, слипшийся в комья рис. Другие грызли стебли сахарного тростника. Тростник они предлагали и Бопре, но он отказывался, хотя и любил высасывать из тростинок сок. Он считал, что сок этот, как и кока-кола, только усиливает жажду. Слишком он сладок.
Обычно после первого часа марша, если, конечно, не появлялся противник, солдаты начинали держаться вольнее: шум шагов и разговоров становился громче, шли они медленнее, то и дело раздавались смешки. Иногда Бопре сравнивал их с американскими солдатами и ужасался их легкомыслию и беззаботности в боевой обстановке. Порой ему казалось, что схватки с противником являются лишь временным нарушением привычного течения их жизни - точно гроза. Они шли и шутили, потом натыкались на засаду, несколько человек падали убитыми, бой кончался, и они снова шли, смеясь и болтая, не усмиренные даже смертью. Американские солдаты, каковы бы ни были их недостатки (а недостатков этих было много), не относились к смерти с такой легкостью. Бопре попытался представить себе, что было бы, если бы американцам пришлось воевать в одной и той же местности лет пять или больше. Намного ли отличались бы они тогда от вьетнамцев? Он и в себе находил перемены; когда он только приехал сюда, он был во всеоружии той внутренней подтянутости и дисциплинированности, которые выработались у него за время второй мировой войны и потом в Корее; он по-прежнему был профессиональным военным, но теперь, думал он, это был более расслабленный, более акклиматизированный профессионализм. Он плыл по течению и уже не отдавал себя на все сто процентов войне, которая велась лишь на пять процентов мощности. Лучше всего, конечно, считать - как им это советовали и даже приказывали во время политического инструктажа,- что вьетконговцы в любую минуту могут выскочить из-за каждого куста, из каждого канала, хижины. ("Вьетконг всегда там, где мы его не ждем. Вьетконг всегда хитрее нас. Мы спим, а Вьетконг думает, строит планы, чистит оружие" - так было сказано на последнем инструктаже). Но если руководствоваться этими наставлениями, то очень быстро измотаешься. Тут слишком много кустов, каналов и хижин, чтобы всех их бояться, а вьетконговцев слишком мало, чтобы они могли всюду прятаться. Только сумасшедший мог бы свои первые три операции провести, выискивая всюду вьетконговцев, к началу четвертой он обессилел бы и физически и душевно, и вот тут-то вьетконговцы его бы и укокошили. Такой паршивой войны нарочно не придумаешь. Нет, лучше идти, как идешь, и не слишком усердствовать. На этой войне, если хочешь, чтобы тебя не застали врасплох, нужно вжиться в нее и почувствовать ее ритм. Лейтенант Андерсон - другое дело: он молод, честолюбив и еще не насытился войной, а потому не признает расслабленности. Для него каждая засада - это противник и исполнение долга, каждый вьетконговец - новый шаг к повышению, каждая успешная операция - победа во имя родины, во имя долга, чести,- родины и Вест-Пойнта. Он уже встречал таких лейтенантов раньше, в Корее например. В Корее казалось, что их просто штампуют - молодые, сильные, абсолютно бесстрашные, они точно сходили с бесконечного конвейера. Они вели солдат в бой, часто с излишней доблестью, и гибли. Их увозили назад очень-очень скоро. Они гибли красиво, и солдаты жалели о них (ему ни разу не доводилось слышать в Корее, чтобы солдаты, готовые ругаться по любому поводу, жаловались на молодых офицеров. И это относилось не только к выпускникам Вест-Пойнта, но ко всем: может, курсанты СПОЗ [СПОЗ - Служба подготовки офицеров запаса] стремились доказать, что они ничуть пе хуже самих вестпойнтцев). Веря всему, чему их учили, они приезжали в Корею слишком быстро, и гибли слишком быстро, и слишком быстро заменялись новыми, точно такими же лейтенантами, которые рвались заменить их. Иногда ему хотелось предостеречь их, сказать, что их плохо инструктировали, что все это ложь, что только осторожные выживут, вернутся на родину и будут инструктировать других, что только осторожные сделают карьеру. Но тем из них, кто уцелел, предстояло либо узнать это самим, либо не узнать никогда, во всяком случае, ему бы они не поверили: не пожилым армейским капитанам читать наставления о том, как сделать карьеру. Молодые офицеры согласились бы учиться только у того, кто сам сумел ее сделать.
Впервые за весь день Бопре подумал, не бросает ли на него тень то, что его не послали с воздушным десантом. Как-никак десант - ответственное дело, требующее самого лучшего личного состава, самой лучшей координации, самых лучших отношений между советниками и вьетнамцами и самых лучших офицеров - настоящих тигров. Бопре же тигром никак назвать было нельзя (когда полковник в разговоре с ним иронически назвал тигром Данга, не имел ли он в виду и его, Бопре, и не намекал ли на то, что один стоит другого и что иного, лучшего советника Данг не заслуживает?).
Когда-то и он был тигром, умел убивать, и у него было тренированное, хотя и несколько неуклюжее тело. Но теперь он отяжелел и даже в свежевыглаженной форме ухитрялся иметь слегка неряшливый, помятый вид. Впрочем, не во всем следовало винить его самого, просто он был слишком стар и толст для этой войны, в которой совсем не хотел участвовать. Он спокойно - чтобы не сказать равнодушно - дослуживал в Соединенных Штатах свой двадцатилетний срок, занимал должности, которые армия США когда-то (никто уже не помнил, по какой причине) включила в сферу своей компетенции, но на которые не считала нужным тратить свои лучшие молодые кадры,- например, под конец Бопре преподавал на курсах СПОЗ. Конечно, он предпочел бы что-нибудь другое, но он не распоряжался собой. На оставшиеся четыре года службы право думать за него сохраняло правительство Соединенных Штатов. Собственно говоря, преподавание на курсах СПОЗ не было неприятной или обременительной обязанностью, наибольшая трудность для него заключалась в том, чтобы не ругаться, когда он беседовал с курсантами. За несдержанность в выражениях он получил выговор и два предупреждения, впрочем, подобным проступкам большого значения не придавали, так как, по мнению начальства, этот недостаток органически присущ старым армейцам. Все бопре до него и после него получали и будут получать примерно столько же выговоров - как-то само собой разумелось, что человек, настолько не преуспевший в армии, что он в конце концов попал на такую должность, ие способен следить за своим языком. Но Бопре эта должность, в общем, устраивала. Он уже давно потерял надежду на успех, выдвижение и прочие чудеса, и его вполне удовлетворяли занятия по строевой подготовке (курсанты СПОЗ, как правило, относились к этим занятиям более добросовестно, чем новобранцы регулярной армии) и мечты об интрижках с женами других преподавателей - ему и намекали, и прямо показывали, что его ухаживание было бы принято благосклонно. Однако он опасался, что начальство окажется на стороне разгневанного мужа и предпочтет убрать его, Бопре. Да и жены, в общем, не стоили того, чтобы из-за них рисковать. Так он и служил, выполняя свои официальные функции и не беря на себя неофициальных, пока вновь не заговорили о Вьетнаме и не вошла в моду война против партизан. Кто-то (возможно, электронно-вычислительная машина) докопался, что в начале корейской войны он был разведчиком (машина, конечно, беспощадно игнорировала то обстоятельство, что за время, истекшее после той войны, Бопре прибавил в весе и в годах и убавил в храбрости). Его действительно привлекали к службе в разведке, и он несколько раз переходил линию фронта с заданием захватить пленных, но произошло это только потому, что батальонный командир не любил его и, когда ему предложили найти добровольцев, назвал Бопре, без которого мог прекрасно обойтись.
В 1961 году Бопре вызвали в военное ведомство и безапелляционно заявили, что считают экспертом по партизанской войне; он стал спорить и уверять, что ничего не понимает в партизанской войне, что в разведке он служил недолго, выполнял лишь очень узкие задания, а в живых остался единственно потому, что ему повезло больше, чем другим. Ему ответили, что скромность, конечно, украшает его, но характер работы, которую он выполнял, как раз и позволяет отнести его к разряду специалистов по партизанской войне - ведь ему приходилось бывать в тылу врага. А то, что он уцелел, доказывает, что он настоящий эксперт. Теперь они обнаружили, что в свое время его очень хвалили - за закалку, за умение вынюхивать ловушки ("Иногда мне кажется, что у Бопре корейский нос",- было написано в старом рапорте); они рассказали ему, как он храбр и хитер, и были несколько смущены тем, что он оказался лишь в СПОЗ, но армия велика, и Бопре, конечно, понимает, что случаются отдельные ошибки, теперь, слава богу, эта ошибка будет исправлена. Бопре, хотя и был простодушно польщен отзывом в старом рапорте (совершенно справедливым, кстати сказать), тем не менее продолжал отказываться, ссылаясь на то, что тогда он был на девять лет моложе, менее грузен и более подвижен и энергичен, а к тому же он уже свыкся со своей работой в СПОЗ. Ему растолковали, что он им нужен, а СПОЗ - нет. А кроме того, СПОЗ будет даже полезно, если он уйдет от них, так как там смогут говорить, что капитан Бопре с середины семестра был направлен во Вьетнам. Это повысит авторитет СПОЗ, и, таким образом, во Вьетнаме Бопре принесет ему больше славы - так сказать, держа там факел СПОЗ. Бопре опять попробовал возразить, но это был приказ, а ему надоела жена, надоела вся его жизнь, и в конце концов он согласился.
Сначала его направили в форт Брэгг прочесть курс лекций о специальных методах ведения войны и способах проникновения в тыл противника. Когда он впервые пришел читать лекцию молодым подтянутым курсантам, он напоминал добродушного толстого дикобраза, а не бывалого разведчика. Он почувствовал, что они посмеиваются над ним (все остальные преподаватели были молоды и честолюбивы). На следующий день он явился на занятия при всех своих орденских ленточках, и курсанты перестали иронизировать, зато с этого момента иронизировать начал он, потому что не чувствовал себя с ними свободно. Их жадная любознательность была выше его возможностей, они ждали быстрых и точных ответов на свои вопросы, а он говорил неуверенно и туманно. Они смотрели на его орденские ленточки (два боевых значка пехотинца и "Серебряная звезда") и ждали скромности, прикрывающей подвиги, ждали подвигов, описанных со скромностью, и скромности, обернувшейся подвигом, но видели только неуверенность и неопределенность. Он догадывался об их разочаровании, почти ощущал его. Он рассказывал им о том, как было холодно в Корее и как он мочился на свой карабин, а они хотели знать, как он убивал ножом; но он, выполняя свои задания, не убивал ножом и не убивал даже из карабина. Его великим подвигом, его высшим достижением разведчика было то, что он остался жив, а это в основном означало, что он вышел победителем из постоянной войны с холодом. Электронно-вычислительная машина, по-видимому, почувствовала это, потому что Бопре попал не в особые отряды из двенадцати человек и не в специальные диверсионные части по борьбе с партизанами ("зеленые береты"), а стал обыкновенным американским советником и, к счастью, был послан не в горы, а в низины (иногда он спрашивал себя, узнали ли курсанты СПОЗ, что он не попал в "зеленые береты", а стал всего лишь советником, и не пригасило ли это зажженный им факел). Его страшила даже мысль о том, что ему в его возрасте пришлось бы лазать по горам и тайком пробираться в Лаос (у него никогда не было желания побывать в Лаосе), и он благодарил судьбу за то, что его послали в дельту Меконга.
Он представил себе такой же вот жаркий день в горной местности, и его снова охватил страх. От этого идти по дельте стало как будто легче.
***
К нему подошел Андерсон, и Бопре спросил его о полковнике: не показалось ли ему, что сегодня полковник немного нервничает? Андерсон сказал, что с самим полковником он не разговаривал, но вопросы, которые его интересовали, были все те же. Не слишком ли скученно идут солдаты? Говорили ли Бопре и Андерсон что-нибудь насчет скученности? Как действует на солдат жара? Каково настроение в деревнях? Есть ли какие-нибудь хорошие признаки, какие-нибудь дурные признаки, вообще какие-нибудь признаки? Стал ли Данг лучше? Или хуже? Начеку ли солдаты? Как выглядят посевы? Нужно ли что-нибудь? Все те же вопросы, и полковник не придирчивее и не мягче обычного.
Бопре, выискивавший доказательства тайных переговоров с полковником, кивнул и сказал, что полковник достаточно умен, чтобы в такой жаркий день не нажимать на подчиненных.
Затем не спеша, как если бы стремление скрыть жажду было постыдным, Бопре, как алкоголик, доказывающий, что он не алкоголик, достал флягу и отпил большой глоток воды под внимательным взглядом лейтенанта.
- Такой поганой воды, как в этой проклятой стране,- сказал он,- нет нигде в мире. Вы, может, думаете, что это из-за наших армейских гениев, которые насовали в нее разных химикалий? Ошибаетесь. В чистом виде она такая же поганая. Химикалии даже чуть-чуть улучшают ее. Все дело в том, что здесь поклоняются предкам. Здешние жители всегда хоронят своих предков на лучших землях, а это значит - всегда недалеко от колодцев, так что когда они пьют воду, то приобщаются к предкам. Предки же не слишком приятны на вкус, только и всего. Ну, они, конечно, про это знают, они, может быть, и глупы, но не настолько же! Беда в том, что они вежливы. Они очень вежливы, вы это знаете. Ну а как известно, человек не способен чувствовать ни собственного запаха, ни вкуса собственных предков, а потому он и не подозревает, насколько его предки противны на вкус. Но потом он навещает соседа и обнаруживает, что вода у того прескверная, а уж с предков и вовсе рвет, но вежливость не позволяет ему сказать об этом вслух. Вот вы, например, явившись к Дангу с визитом и выпив там воды, не станете же поносить его дедушку, верно?
Он молча прошел несколько шагов, потом сказал:
- Вся беда этой страны в том, что вода и люди тут пахнут одинаково.
- Воздержитесь от подобных высказываний в присутствии специалистов по психологической войне,- предупредил Андерсон.- Они ведь очень тесно связаны с местным крестьянством.
Теперь Андерсона забавляли такие разговоры. Он никогда не знал заранее, какой оборот они примут: говорит ли Бопре серьезно, со злостью, или шутит, или же и злится и шутит одновременно. В двух последних случаях Андерсон позволял себе расслабиться и получал удовольствие от неожиданных замечаний капитана, но, когда Бопре давал выход своей желчи, Андерсон настораживался: он теперь несколько остерегался Бопре.
- Плевал я на специалистов по психологической войне. Все они работают на Вьетконг, черт их дери. Каждую неделю они приходят и объясняют нам, что мы должны быть вежливыми с местным населением: будьте вежливы, будьте дружелюбны, будьте кротки, не превращайте этих маленьких дружелюбненьких крестьян в гадких вьетконговцев. Держитесь дружески с крестьянами, поймите их - у них тяжелая жизнь, а их матери недостаточно их любили. И прочая чушь. Вам не прихолилось наблюдать, как эти специалисты работают? А мне вот пришлось, когда я только что сюда приехал. Мы отправились на операцию, и с нами произошла небольшая неприятность - не то чтобы засада, а так, несколько вьетконговцев обстреляли нас из старых французских винтовок и рогаток. Ну, вьетнамцы стали отвечать: противник стрелял довольно слабо, так что они не слишком перепугались. А специалист по психологической войне палил больше всех. Только не знал в кого. По-моему, он просто держал пистолет дулом вверх и нажимал на курок. Совсем поглупел от страха. Но в конце концов не то вьетконговцы сами отошли, не то мы их нечаянно перебили - всякое ведь случается; во всяком случае, он подошел ко мне и давай рассыпаться в благодарностях и все твердил, какой я герой: мужественный, хладнокровный и прочее и прочее. Но потом этот сукин сын вернулся в Сайгон и написал рапорт, что район, дескать, очень неблагополучный, кругом вьетконговцы, а все потому, что мы с самого начала вели себя скверно, с крестьянами обращались хуже некуда и психологической войной их совсем не баловали. А психологическая война - это главное. Он написал и обо мне, но не про то, что я герой, как я надеялся. Он указал, что я не сочувствую народу, что я не способен завоевать их любовь и уважение и что я угрюм. Угрюм!
- Что, устали за воскресенье в Сайгоне?- спросил Андерсон.- Переборщили, наверное.
Сам Андерсон был верен жене, и если ездил в Сайгон, так только за покупками или чтобы побывать в кино. Да и то по настоянию полковника, который любил его и беспокоился, что он слишком уж серьезно относится к своим обязанностям, а потому иногда просто заставлял его уезжать из семинарии.
- Да, воскресенье было тяжелым, это верно,- сказал Бопре.- Только мне все равно мало.
Это была одна из его официальных ролей в семинарии - роль завзятого бабника ("Есть только два сорта - хорошие и лучше; я жалею лишь, что раньше за это не принялся" и т.д.).
***
Жара оставалась жарой, и никто ничего не мог изменить. Когда Бопре еще только приехал, он вместе с другими советниками добивался согласия полковника на то, чтобы операции проводились не в дневное, а в ночное время. Однако добивался он этого совсем не из тех побуждений, что остальные - молодые, горячие офицеры, которые доказывали, что противник предпочитает передвигаться и атаковать ночью и поэтому им следует делать то же. Бопре в принципе был с этим согласен, но сам он думал вовсе не о том, чтобы гоняться за маленькими вьетконговцами, которые ночью расхаживают без всяких опасений,- он думал о ночной прохладе и о том, что ночью на марше не придется раз за разом умирать от жары. И когда полковник спросил его мнение, он сказал: "Конечно, почему бы и нет?" Полковник, опытный офицер, продолжал сомневаться и все спрашивал, действительно ли они к этому подготовлены, потому что неудача может привести к самым тяжелым последствиям. Но молодые офицеры были уверены в своей правоте: они обсудили эту идею со своими вьетнамскими коллегами, и те единодушно поддержали ее. Словом, за ночные операции были как будто все, кроме полковника (что отнюдь не объясняло, почему никто еще не испробовал этого раньше). В конце концов полковник сдался, уговорил Ко, и Бопре получил возможность наслаждаться на марше ночной прохладой. Но оказалось, что полковник был все-таки прав: они не были готовы к ночным операциям, и затея эта кончилась крахом. Ночная тьма только выявила все их слабости: батальоны отрывались от полков, роты - от батальонов, взводы - от рот. Потом в течение нескольких дней на базу в одиночку и группами возвращались заблудившиеся солдаты, и никогда - ни до, ни после - число дезертиров не было так велико. В кромешной тьме войска брели вслепую неизвестно куда, и один советник батальона, человек в этих местах новый, в ответ на запрос по радио, где они находятся, ответил: "У деревни Аптиенлыок - так написано на дощечке-указателе". Этот ответ передали полковнику, который до того сохранял спокойствие и выдержку, а тут вдруг почувствовал, что в глазах Сайгона виноват в случившемся будет он, а не молодые офицеры, и в бешенстве закричал радисту: "Скажите этому дураку, что как в Штатах надпись "Осторожно, пешеходы" вовсе не означает, что это название данного места, так и тут "Аптиенлыок" перед каждой деревней всего-навсего значит: "Стратегический пункт".
Полковнику ночная операция не доставила никакого удовольствия, как и Бопре. Отсутствие солнца не компенсировало всего прочего: Бопре устал, его жрали москиты и мучил страх, что ему нечаянно выстрелит в спину кто-нибудь из его же отряда или уложит наповал, скажем, Ролстон, если они натолкнутся на другой батальон. Благодаря этой ночной операции терпеть дневные стало чуть легче.
От жары страдал не он один. Андерсону тоже приходилось нелегко, но для Бопре даже ходьба представляла проблему. Он то и дело прикладывался к фляге, потеряв всякую выдержку и забыв о собственных правилах. Жара начинала не на шутку тревожить его. Правда, головокружения еще не было, но он потерял уверенность в себе и боялся думать о том, как может кончиться этот день. Теперь они дошли до сложной сети каналов, тянувшихся между деревнями, и Бопре почувствовал особенную усталость, словно он вбирал в себя всю энергию солнца и потом ее излучал. Вместо мостков через узенькие каналы были переброшены скользкие жерди. Именно эту часть пути Бопре ненавидел больше всего. По этим ненадежным мосткам нужно было ступать быстро, ни на секунду не замедляя шага. Если канал был пошире, вьетнамцы втыкали сбоку от мостика шест и, переходя, хватались за него. Бопре терпеть не мог эти проклятые мостики - человек его сложения выглядел на них смешно. ("Нужно только, капитан,- говорил ему полковник, не щадивший его в первые дни,- вообразить себя балериной, и все сразу станет очень просто"). Бопре не раз уже срывался с этих мостков. С самого начала ему казалось обидным и унизительным, что человеку его возраста приходится, согнувшись, неуклюже балансируя, бежать по тоненькой жердочке, изображая грациозную походку, а потом со всего размаха плюхаться в воду на глазах у хихикающих солдат. ("У этих коротышек,- думал он,- центр тяжести расположен ниже, не будь они такими плюгавыми, они бы так не смеялись"). Он считал, что нельзя ставить человека его возраста в столь дурацкое положение. Это уж его дело, когда, где и как строить из себя дурака.
Первый из трех каналов он перешел благополучно (идя по мостику, он взглянул на сложную сеть каналов и подумал, что это идеальное место для засады: отряд не мог бы продвинуться ни на шаг, пришлось бы подставлять под пули солдата за солдатом - один мертвый солдат за другим). Но он устал и на втором мостике допустил ужасную ошибку - посмотрел себе под ноги и подумал, что может упасть. Внизу текла вода - мутная, грязная, теплая, отвратительная жидкость, полная нечистот. Он покачнулся и едва не упал.
Третий канал был немного шире первых двух, и Бопре начал нервничать еще до того, как ступил на мостик. Вьетнамцы двигались по жердям медленно, так что образовалась пробка, и Бопре пришлось остановиться; дожидаясь очереди, он посмотрел на шаткий мостик, скользкий от грязи с солдатских подошв. Он простоял так слишком долго и когда наконец сошел на мостик, то словно под воздействием самовнушения покачнулся, сорвался с жерди и упал в воду - это произошло как-то не сразу, и, прежде чем коснуться плечом воды, он успел протянуть одну руку вниз, а другую, с пистолетом, поднять. Он ушел с головой в теплую грязную жижу и, хотя попытался плотно сжать губы, все-таки хлебнул воды. Он вынырнул, отчаянно отплевываясь, откашливаясь и проклиная каналы, мостики, воду и всю эту страну (себя самого он проклинал очень редко). Он был взбешен, форма его пропиталась грязной, теплой водой, которая не освежала, несмотря на жару. Он поглядел на вьетнамцев, все еще стоявших на мостике, но они молчали. Сердито хмурясь, он вылез на берег и пошел было дальше, как вдруг заметил, что потерял свой пистолет (собственно говоря, не свой, а Ролстона: они обменялись пистолетами, потому что Ролстону понравился его люгер; в обойме ролстоновского кольта было всего два патрона, Бопре потребовал еще четыре, но Ролстон сказал, что хватит ему и двух - один для вьетконговца и один для себя). Бопре с отвращением снова спустился в грязную воду - он никогда раньше не думал, что вода в канале может быть такой теплой,- и, присев на корточки, начал шарить рукой по дну: окунаться с головой он ни за что не хотел. Но пальцы его хватали один ил. Тогда с мостика спрыгнул солдат и вопросительно посмотрел на Бопре. Тот жестами показал, что ищет пистолет, и вьетнамец, точно водолаз, ушел под воду. Через секунду он вынырнул, гордо держа пистолет. Бопре, еще острее почувствовав унизительность своего положения, неуклюже поблагодарил его и впервые сообразил, что не знает, как по-вьетнамски "спасибо". Он сунул было руку в карман за деньгами, но тут же решил, что это будет еще хуже. Он улыбнулся солдату, и тот ответил ему улыбкой. Бопре чувствовал себя старым и глупым. Он пошел дальше, но походка его уже не была такой самоуверенной. Солнце высасывало теплую воду из его одежды. Потом он подумал, что ему еще повезло: не хватись он тотчас, пришлось бы объяснять Ролстону, куда девался кольт и эти два патрона. Он так и не дозарядил обойму.
Бопре достал флягу и прополоскал рот, израсходовав часть драгоценной влаги. Он даже не был уверен, что во рту у него действительно дурной вкус, но так ему казалось, а остальное не имело значения. Он выплюнул воду. Фляга катастрофически пустела - он видел это по наклону, когда подносил флягу ко рту. Осталось, видимо, не более трети. Надо было взять запасную флягу. Это определенно имело смысл: во время второй мировой войны на юге Тихого океана солдаты носили по две фляги, правда, они никогда не знали, сколько им придется ждать, пока подвезут воду. Однако в семинарии никто с двумя флягами не ходил, так что он вновь страдал из-за своей ложной гордости. А ведь как просто - взять две фляги.
Бопре попросил Андерсона связаться с КП. Дежурный сообщил, что все идет прекрасно, без сучка и задоринки. И пока никто ничего не напутал. (Бопре уловил в этих словах намек на то, что все пройдет гладко, если Данг и Бопре ничего не напутают).
- Как там Ролстон?- спросил Бопре.
- Несколько старух по обыкновению обозлились на наших дружков и набросились на них, а Ролстон решил разыграть из себя мудрого судью и помирить их, да только эти бабы чуть не выцарапали ему глаза. Говорит, никогда еще не видел, чтобы женщины так злобствовали, по сравнению с ними даже собственная супруга показалась ему настоящей леди. Тут он взбесился и трех из них арестовал. Говорит, что страху натерпелся, как никогда в жизни; он им кричит: "Я ваш друг, я ваш друг, я добрый американец!"- а они все равно лезут на него. Да, кстати, он просил вам кое-что передать. Будете слушать?
Бопре сказал, что будет.
- Ролстон просит передать, что у него там чертовски жарко, и спрашивает, как дела у вас. Он договорился с полковником, что вернется на базу на вертолете, если будет дополнительный рейс, а вы пешком дойдете. Говорит, что вы поймете его, поскольку вы с ним приятели.
- Ладно,- сказал Бопре.- Так ему и передайте. Пусть пролетают над нами, чтобы мы могли их по-дружески приветствовать.
- Полковник тоже о вас справлялся,- сказал дежурный.- Спрашивал, как дела и все ли в порядке. Я сказал, что все хорошо и вы, как всегда, полны бодрости, но он, кажется, немного беспокоится. Просил ему сообщить, если жара вас совсем замучает.
- Скажите ему, чтоб не беспокоился. Жара как жара,- сказал Бопре, но позже он усомнился в правильности такого ответа: пожалуй, лучше было бы вернуться санитарным вертолетом. И еще он подумал о том, не сказал ли чего-нибудь Андерсон полковнику.
***
Они продолжали идти, и Бопре смотрел на солдат с невольным уважением. Они словно не замечали жары. Она их не угнетала. "Как будто вышли на прогулку",- подумал сн. У солдат была с собой еда, и кое-кто уже начал пощипывать холодный, слипшийся в комья рис. Другие грызли стебли сахарного тростника. Тростник они предлагали и Бопре, но он отказывался, хотя и любил высасывать из тростинок сок. Он считал, что сок этот, как и кока-кола, только усиливает жажду. Слишком он сладок.
Обычно после первого часа марша, если, конечно, не появлялся противник, солдаты начинали держаться вольнее: шум шагов и разговоров становился громче, шли они медленнее, то и дело раздавались смешки. Иногда Бопре сравнивал их с американскими солдатами и ужасался их легкомыслию и беззаботности в боевой обстановке. Порой ему казалось, что схватки с противником являются лишь временным нарушением привычного течения их жизни - точно гроза. Они шли и шутили, потом натыкались на засаду, несколько человек падали убитыми, бой кончался, и они снова шли, смеясь и болтая, не усмиренные даже смертью. Американские солдаты, каковы бы ни были их недостатки (а недостатков этих было много), не относились к смерти с такой легкостью. Бопре попытался представить себе, что было бы, если бы американцам пришлось воевать в одной и той же местности лет пять или больше. Намного ли отличались бы они тогда от вьетнамцев? Он и в себе находил перемены; когда он только приехал сюда, он был во всеоружии той внутренней подтянутости и дисциплинированности, которые выработались у него за время второй мировой войны и потом в Корее; он по-прежнему был профессиональным военным, но теперь, думал он, это был более расслабленный, более акклиматизированный профессионализм. Он плыл по течению и уже не отдавал себя на все сто процентов войне, которая велась лишь на пять процентов мощности. Лучше всего, конечно, считать - как им это советовали и даже приказывали во время политического инструктажа,- что вьетконговцы в любую минуту могут выскочить из-за каждого куста, из каждого канала, хижины. ("Вьетконг всегда там, где мы его не ждем. Вьетконг всегда хитрее нас. Мы спим, а Вьетконг думает, строит планы, чистит оружие" - так было сказано на последнем инструктаже). Но если руководствоваться этими наставлениями, то очень быстро измотаешься. Тут слишком много кустов, каналов и хижин, чтобы всех их бояться, а вьетконговцев слишком мало, чтобы они могли всюду прятаться. Только сумасшедший мог бы свои первые три операции провести, выискивая всюду вьетконговцев, к началу четвертой он обессилел бы и физически и душевно, и вот тут-то вьетконговцы его бы и укокошили. Такой паршивой войны нарочно не придумаешь. Нет, лучше идти, как идешь, и не слишком усердствовать. На этой войне, если хочешь, чтобы тебя не застали врасплох, нужно вжиться в нее и почувствовать ее ритм. Лейтенант Андерсон - другое дело: он молод, честолюбив и еще не насытился войной, а потому не признает расслабленности. Для него каждая засада - это противник и исполнение долга, каждый вьетконговец - новый шаг к повышению, каждая успешная операция - победа во имя родины, во имя долга, чести,- родины и Вест-Пойнта. Он уже встречал таких лейтенантов раньше, в Корее например. В Корее казалось, что их просто штампуют - молодые, сильные, абсолютно бесстрашные, они точно сходили с бесконечного конвейера. Они вели солдат в бой, часто с излишней доблестью, и гибли. Их увозили назад очень-очень скоро. Они гибли красиво, и солдаты жалели о них (ему ни разу не доводилось слышать в Корее, чтобы солдаты, готовые ругаться по любому поводу, жаловались на молодых офицеров. И это относилось не только к выпускникам Вест-Пойнта, но ко всем: может, курсанты СПОЗ [СПОЗ - Служба подготовки офицеров запаса] стремились доказать, что они ничуть пе хуже самих вестпойнтцев). Веря всему, чему их учили, они приезжали в Корею слишком быстро, и гибли слишком быстро, и слишком быстро заменялись новыми, точно такими же лейтенантами, которые рвались заменить их. Иногда ему хотелось предостеречь их, сказать, что их плохо инструктировали, что все это ложь, что только осторожные выживут, вернутся на родину и будут инструктировать других, что только осторожные сделают карьеру. Но тем из них, кто уцелел, предстояло либо узнать это самим, либо не узнать никогда, во всяком случае, ему бы они не поверили: не пожилым армейским капитанам читать наставления о том, как сделать карьеру. Молодые офицеры согласились бы учиться только у того, кто сам сумел ее сделать.
Впервые за весь день Бопре подумал, не бросает ли на него тень то, что его не послали с воздушным десантом. Как-никак десант - ответственное дело, требующее самого лучшего личного состава, самой лучшей координации, самых лучших отношений между советниками и вьетнамцами и самых лучших офицеров - настоящих тигров. Бопре же тигром никак назвать было нельзя (когда полковник в разговоре с ним иронически назвал тигром Данга, не имел ли он в виду и его, Бопре, и не намекал ли на то, что один стоит другого и что иного, лучшего советника Данг не заслуживает?).
Когда-то и он был тигром, умел убивать, и у него было тренированное, хотя и несколько неуклюжее тело. Но теперь он отяжелел и даже в свежевыглаженной форме ухитрялся иметь слегка неряшливый, помятый вид. Впрочем, не во всем следовало винить его самого, просто он был слишком стар и толст для этой войны, в которой совсем не хотел участвовать. Он спокойно - чтобы не сказать равнодушно - дослуживал в Соединенных Штатах свой двадцатилетний срок, занимал должности, которые армия США когда-то (никто уже не помнил, по какой причине) включила в сферу своей компетенции, но на которые не считала нужным тратить свои лучшие молодые кадры,- например, под конец Бопре преподавал на курсах СПОЗ. Конечно, он предпочел бы что-нибудь другое, но он не распоряжался собой. На оставшиеся четыре года службы право думать за него сохраняло правительство Соединенных Штатов. Собственно говоря, преподавание на курсах СПОЗ не было неприятной или обременительной обязанностью, наибольшая трудность для него заключалась в том, чтобы не ругаться, когда он беседовал с курсантами. За несдержанность в выражениях он получил выговор и два предупреждения, впрочем, подобным проступкам большого значения не придавали, так как, по мнению начальства, этот недостаток органически присущ старым армейцам. Все бопре до него и после него получали и будут получать примерно столько же выговоров - как-то само собой разумелось, что человек, настолько не преуспевший в армии, что он в конце концов попал на такую должность, ие способен следить за своим языком. Но Бопре эта должность, в общем, устраивала. Он уже давно потерял надежду на успех, выдвижение и прочие чудеса, и его вполне удовлетворяли занятия по строевой подготовке (курсанты СПОЗ, как правило, относились к этим занятиям более добросовестно, чем новобранцы регулярной армии) и мечты об интрижках с женами других преподавателей - ему и намекали, и прямо показывали, что его ухаживание было бы принято благосклонно. Однако он опасался, что начальство окажется на стороне разгневанного мужа и предпочтет убрать его, Бопре. Да и жены, в общем, не стоили того, чтобы из-за них рисковать. Так он и служил, выполняя свои официальные функции и не беря на себя неофициальных, пока вновь не заговорили о Вьетнаме и не вошла в моду война против партизан. Кто-то (возможно, электронно-вычислительная машина) докопался, что в начале корейской войны он был разведчиком (машина, конечно, беспощадно игнорировала то обстоятельство, что за время, истекшее после той войны, Бопре прибавил в весе и в годах и убавил в храбрости). Его действительно привлекали к службе в разведке, и он несколько раз переходил линию фронта с заданием захватить пленных, но произошло это только потому, что батальонный командир не любил его и, когда ему предложили найти добровольцев, назвал Бопре, без которого мог прекрасно обойтись.
В 1961 году Бопре вызвали в военное ведомство и безапелляционно заявили, что считают экспертом по партизанской войне; он стал спорить и уверять, что ничего не понимает в партизанской войне, что в разведке он служил недолго, выполнял лишь очень узкие задания, а в живых остался единственно потому, что ему повезло больше, чем другим. Ему ответили, что скромность, конечно, украшает его, но характер работы, которую он выполнял, как раз и позволяет отнести его к разряду специалистов по партизанской войне - ведь ему приходилось бывать в тылу врага. А то, что он уцелел, доказывает, что он настоящий эксперт. Теперь они обнаружили, что в свое время его очень хвалили - за закалку, за умение вынюхивать ловушки ("Иногда мне кажется, что у Бопре корейский нос",- было написано в старом рапорте); они рассказали ему, как он храбр и хитер, и были несколько смущены тем, что он оказался лишь в СПОЗ, но армия велика, и Бопре, конечно, понимает, что случаются отдельные ошибки, теперь, слава богу, эта ошибка будет исправлена. Бопре, хотя и был простодушно польщен отзывом в старом рапорте (совершенно справедливым, кстати сказать), тем не менее продолжал отказываться, ссылаясь на то, что тогда он был на девять лет моложе, менее грузен и более подвижен и энергичен, а к тому же он уже свыкся со своей работой в СПОЗ. Ему растолковали, что он им нужен, а СПОЗ - нет. А кроме того, СПОЗ будет даже полезно, если он уйдет от них, так как там смогут говорить, что капитан Бопре с середины семестра был направлен во Вьетнам. Это повысит авторитет СПОЗ, и, таким образом, во Вьетнаме Бопре принесет ему больше славы - так сказать, держа там факел СПОЗ. Бопре опять попробовал возразить, но это был приказ, а ему надоела жена, надоела вся его жизнь, и в конце концов он согласился.
Сначала его направили в форт Брэгг прочесть курс лекций о специальных методах ведения войны и способах проникновения в тыл противника. Когда он впервые пришел читать лекцию молодым подтянутым курсантам, он напоминал добродушного толстого дикобраза, а не бывалого разведчика. Он почувствовал, что они посмеиваются над ним (все остальные преподаватели были молоды и честолюбивы). На следующий день он явился на занятия при всех своих орденских ленточках, и курсанты перестали иронизировать, зато с этого момента иронизировать начал он, потому что не чувствовал себя с ними свободно. Их жадная любознательность была выше его возможностей, они ждали быстрых и точных ответов на свои вопросы, а он говорил неуверенно и туманно. Они смотрели на его орденские ленточки (два боевых значка пехотинца и "Серебряная звезда") и ждали скромности, прикрывающей подвиги, ждали подвигов, описанных со скромностью, и скромности, обернувшейся подвигом, но видели только неуверенность и неопределенность. Он догадывался об их разочаровании, почти ощущал его. Он рассказывал им о том, как было холодно в Корее и как он мочился на свой карабин, а они хотели знать, как он убивал ножом; но он, выполняя свои задания, не убивал ножом и не убивал даже из карабина. Его великим подвигом, его высшим достижением разведчика было то, что он остался жив, а это в основном означало, что он вышел победителем из постоянной войны с холодом. Электронно-вычислительная машина, по-видимому, почувствовала это, потому что Бопре попал не в особые отряды из двенадцати человек и не в специальные диверсионные части по борьбе с партизанами ("зеленые береты"), а стал обыкновенным американским советником и, к счастью, был послан не в горы, а в низины (иногда он спрашивал себя, узнали ли курсанты СПОЗ, что он не попал в "зеленые береты", а стал всего лишь советником, и не пригасило ли это зажженный им факел). Его страшила даже мысль о том, что ему в его возрасте пришлось бы лазать по горам и тайком пробираться в Лаос (у него никогда не было желания побывать в Лаосе), и он благодарил судьбу за то, что его послали в дельту Меконга.
Он представил себе такой же вот жаркий день в горной местности, и его снова охватил страх. От этого идти по дельте стало как будто легче.
***
К нему подошел Андерсон, и Бопре спросил его о полковнике: не показалось ли ему, что сегодня полковник немного нервничает? Андерсон сказал, что с самим полковником он не разговаривал, но вопросы, которые его интересовали, были все те же. Не слишком ли скученно идут солдаты? Говорили ли Бопре и Андерсон что-нибудь насчет скученности? Как действует на солдат жара? Каково настроение в деревнях? Есть ли какие-нибудь хорошие признаки, какие-нибудь дурные признаки, вообще какие-нибудь признаки? Стал ли Данг лучше? Или хуже? Начеку ли солдаты? Как выглядят посевы? Нужно ли что-нибудь? Все те же вопросы, и полковник не придирчивее и не мягче обычного.
Бопре, выискивавший доказательства тайных переговоров с полковником, кивнул и сказал, что полковник достаточно умен, чтобы в такой жаркий день не нажимать на подчиненных.
Затем не спеша, как если бы стремление скрыть жажду было постыдным, Бопре, как алкоголик, доказывающий, что он не алкоголик, достал флягу и отпил большой глоток воды под внимательным взглядом лейтенанта.
- Такой поганой воды, как в этой проклятой стране,- сказал он,- нет нигде в мире. Вы, может, думаете, что это из-за наших армейских гениев, которые насовали в нее разных химикалий? Ошибаетесь. В чистом виде она такая же поганая. Химикалии даже чуть-чуть улучшают ее. Все дело в том, что здесь поклоняются предкам. Здешние жители всегда хоронят своих предков на лучших землях, а это значит - всегда недалеко от колодцев, так что когда они пьют воду, то приобщаются к предкам. Предки же не слишком приятны на вкус, только и всего. Ну, они, конечно, про это знают, они, может быть, и глупы, но не настолько же! Беда в том, что они вежливы. Они очень вежливы, вы это знаете. Ну а как известно, человек не способен чувствовать ни собственного запаха, ни вкуса собственных предков, а потому он и не подозревает, насколько его предки противны на вкус. Но потом он навещает соседа и обнаруживает, что вода у того прескверная, а уж с предков и вовсе рвет, но вежливость не позволяет ему сказать об этом вслух. Вот вы, например, явившись к Дангу с визитом и выпив там воды, не станете же поносить его дедушку, верно?
Он молча прошел несколько шагов, потом сказал:
- Вся беда этой страны в том, что вода и люди тут пахнут одинаково.
- Воздержитесь от подобных высказываний в присутствии специалистов по психологической войне,- предупредил Андерсон.- Они ведь очень тесно связаны с местным крестьянством.
Теперь Андерсона забавляли такие разговоры. Он никогда не знал заранее, какой оборот они примут: говорит ли Бопре серьезно, со злостью, или шутит, или же и злится и шутит одновременно. В двух последних случаях Андерсон позволял себе расслабиться и получал удовольствие от неожиданных замечаний капитана, но, когда Бопре давал выход своей желчи, Андерсон настораживался: он теперь несколько остерегался Бопре.
- Плевал я на специалистов по психологической войне. Все они работают на Вьетконг, черт их дери. Каждую неделю они приходят и объясняют нам, что мы должны быть вежливыми с местным населением: будьте вежливы, будьте дружелюбны, будьте кротки, не превращайте этих маленьких дружелюбненьких крестьян в гадких вьетконговцев. Держитесь дружески с крестьянами, поймите их - у них тяжелая жизнь, а их матери недостаточно их любили. И прочая чушь. Вам не прихолилось наблюдать, как эти специалисты работают? А мне вот пришлось, когда я только что сюда приехал. Мы отправились на операцию, и с нами произошла небольшая неприятность - не то чтобы засада, а так, несколько вьетконговцев обстреляли нас из старых французских винтовок и рогаток. Ну, вьетнамцы стали отвечать: противник стрелял довольно слабо, так что они не слишком перепугались. А специалист по психологической войне палил больше всех. Только не знал в кого. По-моему, он просто держал пистолет дулом вверх и нажимал на курок. Совсем поглупел от страха. Но в конце концов не то вьетконговцы сами отошли, не то мы их нечаянно перебили - всякое ведь случается; во всяком случае, он подошел ко мне и давай рассыпаться в благодарностях и все твердил, какой я герой: мужественный, хладнокровный и прочее и прочее. Но потом этот сукин сын вернулся в Сайгон и написал рапорт, что район, дескать, очень неблагополучный, кругом вьетконговцы, а все потому, что мы с самого начала вели себя скверно, с крестьянами обращались хуже некуда и психологической войной их совсем не баловали. А психологическая война - это главное. Он написал и обо мне, но не про то, что я герой, как я надеялся. Он указал, что я не сочувствую народу, что я не способен завоевать их любовь и уважение и что я угрюм. Угрюм!
- Что, устали за воскресенье в Сайгоне?- спросил Андерсон.- Переборщили, наверное.
Сам Андерсон был верен жене, и если ездил в Сайгон, так только за покупками или чтобы побывать в кино. Да и то по настоянию полковника, который любил его и беспокоился, что он слишком уж серьезно относится к своим обязанностям, а потому иногда просто заставлял его уезжать из семинарии.
- Да, воскресенье было тяжелым, это верно,- сказал Бопре.- Только мне все равно мало.
Это была одна из его официальных ролей в семинарии - роль завзятого бабника ("Есть только два сорта - хорошие и лучше; я жалею лишь, что раньше за это не принялся" и т.д.).
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Полковник никогда не поощрял поездок Бопре в Сайгон и даже не без удовольствия иногда вспоминал о его супругах - о первой (или американской) жене, о сайгонской жене, о шолонской и о второй сайгонской жене. "Которая из них получает по вашему аттестату, Бопре?" - осведомился он. В последнее время Бопре уезжал в Сайгон почти каждое воскресенье, потому что по воскресеньям вьетнамцы обычно соблюдали перемирие. Но ему хотелось не столько съездить в Сайгон, сколько вырваться из Мито. ("Единственный человек, который готов попасть хоть в пять засад ради одной индокитайской юбки",- говорил полковник). Беда была в том, что, приехав в Сайгон, он, несмотря на свою репутацию бабника, не мог бы сказать, зачем, собственно, он туда ехал, зачем так долго добивался отпуска и зачем мчался по дорогам, на которых шоферы автобусов представляли не меньшую опасность, чем вьетконговские мины. В конце концов он просто спускал все деньги, накачиваясь разбавленным виски и поддельным французским коньяком, а потом, мокрый от пота, бесцельно бродил по городу вместе с такими же, как он, мокрыми от пота американцами. И все-таки он продолжал ездить.
Его последний отпуск длился целых три дня, так как был приурочен к одному из бесчисленных вьетнамских праздников ("дню поминовения сдохшего козла",- как выразился Ролстон). Отправившись вместе с тремя другими советниками, он, едва доехав до города, незаметно отстал от них и остановился в дешевой гостинице на окраине Шолона, подальше от того района, где обычно останавливались американцы, и в частности офицеры. В гостинице жили несколько штатских вьетнамцев (по-видимому, провинциальных чиновников) и китайские торговцы из Сингапура. Иногда там останавливались солдаты войск специального назначения из горных районов - они приезжали группами по три человека, всю ночь пили, буянили и орали. Ему запомнился один случай. Из их номера донеслось: "Я позвать полицию! Я позвать вьетнамскую полицию! Вы нет хороший. Я не бояться вас, но я позвать полицию". Потом раздался визг, и другой голос закричал: "Вызывай, подлюга, а я скажу им, чтоб тебя вышибли из гостиницы, потому что у тебя пятьдесят семь болезней, черт побери!" Снова визг, смех и - тишина. Солдаты из войск специального назначения пьянствовали все три дня своего отпуска до самого утра, когда за ними прислали грузовик и отвезли их, пьяных, на аэродром специальных войск в Таншоннят, откуда, пьяные и небритые, они были доставлены на свои маленькие базы у границы Лаоса. Именно в этом и заключались особые преимущества войск специального назначения. Начальство не требовало, чтобы в последний день отпуска вы протрезвлялись, с него было достаточно, чтобы ваше тело было доставлено в часть вовремя.
В номерах этой гостиницы не водилось ни мыла, ни полотенец, а туалетная бумага была такой скользкой, что солдаты войск специального назначения крали ее в больших количествах, чтобы в лагере чистить сапоги. Но в отличие от "Континенталя", "Мажестика" и "Каравеллы" здесь можно было привести к себе в номер девицу, а кроме того, Бопре тут не приходилось общаться с теми же офицерами, с которыми он целую неделю жил в семинарии (он знал, как они выглядят голыми, знал, кто из них чистит зубы, а кто нет, а они в свою очередь знали о нем все и, может быть, даже больше, чем он о них, а потому ему вовсе не хотелось общаться с ними в Сайгоне, чтобы потом все подробности его отпуска стали известны в Мито). В этой гостинице он мог рассчитывать хоть на какое-то уединение. Несколько раз он действительно приводил к себе проституток - иногда даже довольно хорошеньких,- но он чувствовал себя неловко и смущался из-за предосторожностей, которые принимал, чтобы скрыть, сколько у него денег и кто он такой, словно одной неблаговидной профессии с них было мало и они должны были обязательно иметь и вторую, столь же неблаговидную. Поэтому ни одна из них ему даже не запомнилась, хотя в своих ожиданиях он не был разочарован; во всяком случае - что в какой-то мере символично,- ни с одной он не захотел встретиться снова. Ни разу во время этих своих отпусков он не испытал не то что любви, но хотя бы страсти, настолько сильной, чтобы у него могло появиться желание снова увидеть именно эту женщину. Они приходили, делали, что от них требовалось, и исчезали. Он не запомнил ни их имен, ни даже внешности - из восьми только одна сохранилась у него в памяти благодаря пышной груди, странно контрастировавшей с миниатюрной фигуркой, и еще потому, что она все время словно спала.
***
Последний отпуск в город, начавшийся с вечера в пятницу, оказался хуже всех предыдущих. В Шолоне Бопре сразу пошел в ресторан, оглядел зал и вдруг увидел Большого Уильяма, который завопил:
- Поглядите-ка, кого Иисус Христос и его вьетнамский коллега Будда послали Большому Уильяму к ужину - капитана Бопэя, лучшего друга Большого Уильяма. Большой Уильям знает, что капитан - человек компанейский.
Бопре сел за его столик, не слишком радуясь обществу Большого Уильяма. Не то чтобы негр вызывал у него антипатию, наоборот, он скорее нравился ему, чем не нравился (хотя Большой Уильям отождествлялся для него с Вьетнамом, все они тут носили это клеймо, и ни к кому невозможно было питать особой симпатии), но свои отпуска в Сайгоне Бопре предпочитал проводить в одиночестве. Они недурно поужинали. Бопре, сам того не замечая, поносил страну и войну больше обычного, а Большой Уильям старался его подбодрить:
- Не унывай, малыш. Конечно, здесь совсем не так, как ты ожидал или как хотел. Здесь совсем не то. Да ведь если бы здесь было уютно и красиво, так тебя бы сюда и не послали. Уж положись на Большого Уильяма. И ничего сделать нельзя - в этом я убедился давным-давно и в другой стране. Так было до твоего приезда, так есть сейчас, и так будет после нас с тобой. А потому остается только не унывать и улыбаться. Большой Уильям всегда улыбается, даже когда унывает, так что все кругом думают: Большой Уильям не унывает. Большой Уильям молодец. Вот и ты не унывай и помни одно: если бы тут было хорошо, нас бы тут не было. Будь здесь красиво и уютно, так был бы и закон, запрещающий таким, как мы, приезжать сюда, приезжали бы только те, кто делает политику, и в советниках у вьетнамцев ходили бы наши сенаторы и конгрессмены. Вот помни обо всем этом, и не будешь унывать.
Но Бопре оставался угрюмым и даже злым, и это как будто огорчало Большого Уильяма.
- Не так уж все плохо, малыш, не так все плохо. Оно, правда, и не хорошо, но и не так уж плохо. Да и вообще, что скверного может с тобой тут случиться? Только одно - что в один прекрасный день мы пойдем на операцию и нас увидит вьетконговец. Большого Уильяма он не тронет, потому что черные парни ему нравятся и он здорово сочувствует им, знает, как они бедствуют в Алабаме и ходят в одних черных пижамах, а вот ты - белый, и тебя он прихлопнет. Это будет самое скверное, а потом тебя обернут флагом, и отправят домой как героя, и устроят тебе пышные похороны с оркестром и печальной музыкой, а в газете на первой странице под крупным заголовком напечатают, что капитан Бопэй - великий герой; и совершил много великих подвигов, и убил много вьетконговцев, пока они не убили его, и в газете поместят твой портрет, где ты не смеешься, а смотришь настоящим героем. И все будут плакать по тебе - и девушки, которые тебя любили, и девушки, которые натянули тебе нос. Вот самое скверное, что может случиться. А теперь возьми Большого Уильяма - сидит в засаде тот же самый вьетконговец, но тебя он не прихлопнет, потому что ему нравятся белые парии, а прихлопнет Большого Уильяма, потому что он слыхал, будто в Америке все черные разъезжают на собственных кадиллаках, а это ему не нравится. Ну, в ту же минуту война для Большого Уильяма кончится. А потом черную тушу Большого Уильяма положат в самый большой ящик, какой только можно найти, и тоже отправят, и все гробовщики взвоют, потому что он такой большой, что ему все их ящики малы. Ну, отправят его самой малой скоростью, и через год-другой, когда уж и эта война, может, кончится, прибудет ящик в Пиккенс, штат Алабама. Но с оркестром его в Пиккенсе не встретят. Нет, сэр. А сообщение об этом напечатают на пятьдесят седьмой странице, в разделе "Что затевают наши цветные друзья", и в самом низу страницы будет короткая заметка без фотографии - дескать, Большой Уильям, черный негр мужского пола, который, по утверждению военного ведомства, родился в нашем городе, умер где-то в азиатской стране. Насчет героя ничего сказано не будет, а просто: "Мы всегда говорили, что он так кончит, если это тот самый Большой Уильям, которого мы знали, так как с ним всегда были одни хлопоты, и здесь он вел себя нагло, и никакой ценности для армии не представлял, и пусть это послужит вам всем уроком". Так что тебе жаловаться особенно не на что. Только оба мы что-то нарушаем первое правило Большого Уильяма и скулим. Поэтому лучше нам пойти в один веселый бар, который знает Большой Уильям.
Они вышли, и Большой Уильям продолжал рассказывать о своем баре, утверждая, что лучшего нет во всем городе ("Туда ходят только те, кто не унывает"). Бопре не знал, удобно ли ему идти в этот бар. Негр заметил его нерешительность и сначала не понял ее причины, а потом замотал головой и сказал, чтобы он не беспокоился: в этом баре умеют веселиться и даже дежурят около него самые веселые полицейские в городе.
Пока они шли, Большой Уильям признался, что этот бар правится ему из-за мамасан (хозяйки заведения), которая все еще лучше любой из ее девчонок: женщина в самом соку, не чета этим чирикающим цветочкам, настоящая женщина, и денег с него не берет. Он иногда ночует у нее на квартире - такой, что только ахнешь: везде кондиционированный воздух - аппаратов там больше, чем в каком-нибудь генеральском доме, и слуг не меньше шести, хотя все они лилипуты даже для вьетнамцев, а постель вся из шелка, и одежда для него тоже шелковая, и всякие напитки, фрукты и коньяк. Веселое место, не то что в Пиккенсе, штат Алабама. Мамасан редкостная женщина и хочет выйти за него замуж, но кому охота, черт побери, оставаться на всю жизнь в этой стране, даже если тебя одевают в шелковое белье и кладут па шелковую постель, а утром подают коньяк и фрукты. Мамасан даже готова принять его в свое дело: она обещает открыть для него несколько баров.
- Подумать только! Всякий раз, как американский солдат - белый или черный - подцепит девочку, Большой Уильям получает свою долю. Он станет королем этого города. Его именем назовут бары, а один бар назовут и в честь Пиккенса, штат Алабама, где родился Большой Уильям. "Пиккенс-бар". Большой Уильям разбогатеет и станет помогать всем американским солдатам куда лучше Службы организации досуга войск. Бопре думал, что Большой Уильям просто врет, но, когда они поднялись по лестнице и постучали в дверь бара, к ним вышла сама мамасан и, воскликнув: "Мой Болесой Вилиям!", расцеловала его, а потом вежливо пожала руку Бопре.
- Ты не изменял мне, Уильям?- спросила она.
- Ах, мамасан, Большой Уильям так же чист, как был, когда уходил от тебя,- ответил негр.- Хотя, может быть, и не по своей вине.
Войдя следом за мамасан в бар, Бопре остановился в изумлении: зал заполняли одни негры. Все посетители были негры - высокие и толстые, офицеры и рядовые. Ничего подобного он еще не видел. Точно он попал в совсем другой мир. Девушки все были вьетнамки, их обычная белоснежная одежда напоминала тут халаты медицинских сестер. Он заметил, что кожа у них гораздо светлее, чем обычно. Может быть, они кажутся светлее, потому что кожа посетителей так темна, или же мамасан, женщина, несомненно, умная, нарочно подбирала девушек посветлее?
Бопре было очень не по себе, он не мог сделать шага вперед. Большой Уильям придвинулся к нему поближе. Бопре ясно ощущал возникшее напряжение и взгляды, обращенные на него со всех сторон.
Тишина накатилась двумя волнами: сначала замолчали негры, а немного позже - вьетнамские девушки, сообразившие, что происходит что-то необычное и надо молчать. Наконец высокий, стройный негр с лицом черного индейца (Бопре принял его за офицера, а потом узнал, что он какой-то специалист) повернулся вполоборота к вошедшим и сказал, ни на кого не глядя:
- Капитан Редферн, что же вы не познакомите нас с советником вашей дивизии? Назовите нам фамилию полковника.
- Эбен!- сказал другой.- Это вовсе не полковник. Это генерал. Генерал Харкинс. Большой Уильям привел к нам генерала Харкинса.
- Нет, это не генерал Харкинс,- возразил первый.- Генерал Харкинс стройный и молодой.
В глубине зала какой-то негр спросил своего соседа так, чтобы услышал Бопре:
- Как по-твоему, кто это?
- Вьетконговец?
- На тех вьетконговцев, которых я видел, он что-то не похож.
- Да. Но вьетконговцы, когда идут в бар, выглядят иначе. Уходя в увольнение, они снимают черные пижамы.
- Разве?
Наступило короткое молчание, после чего еще один негр, в дорогом спортивном пиджаке, широком в плечах и узком в талии, сказал:
- Джентльмены, как по-вашему, этот генерал заслуживает права посещать наш клуб? Капитан Редферн, вы, надеюсь, не забыли, что мы очень разборчивы, сэр? Очень.
Все, кроме Бопре и Большого Уильяма, засмеялись. Большой Уильям отошел от Бопре к стойке.
- Этот человек - друг Большого Уильяма. Он пришел сюда с Большим Уильямом. Он спросил Большого Уильяма: "Большой Уильям, ничего, если я пойду с тобой в этот самый лучший бар, о котором ты мне рассказывал?" И Большой Уильям ответил: "Конечно! Ты мой друг, а в этом баре собираются веселые ребята, но они все джентльмены". А потом Большой Уильям сказал, что в этой загаженной стране только это место еще не загажено. Еше не погублено. А что вы сделали? Выставили Большого Уильяма обманщиком, и вот сейчас, в восемь часов сорок семь минут вечера, Большой Уильям приносит извинения своему другу капитану Бопэю. Я приношу свои извинения.
Тут кто-то крикнул, чтобы Большой Уильям перестал корчить из себя белого баптистского проповедника, а другой протянул Бопре стакан, сказав: "Пожалуйста, генерал", и на время Бопре признали равноправным посетителем.
Потом появилась мамасан, взяла Большого Уильяма за локоть и увела с собой. Большой Уильям повернулся к Бопре, отдал честь и сказал:
- Она приготовила для Большого Уильяма совсем новенькие шелковые штучки, так что приходится сдаться! Пока, детка, и не вешай нос. А я иду на шелковую смерть!
Сначала Бопре чувствовал себя словно в приемной у зубного врача. Но негры держались очень любезно, подвели к нему девушку и познакомили с ним. Один что-то сказал ей по-вьетнамски, и она хихикнула. Другой перевел:
- Он говорит, что вы белый сенегалец. Они называют нас всех сенегальцами. Сперва они всех цветных считали сенегальцами, а это совсем не такая уж похвала, потому что сенегальцы, кажется, очень им насолили, когда воевали здесь за французов, но теперь это просто шутка.
Бопре заказал девушке три порции виски и улыбался ей и держал ее за руку, но неприятный осадок не исчезал, и ему хотелось уйти. У него было такое ощущение, что негры разговаривают на каком-то иностранном языке и происходит все это в каком-то иностранном государстве (Вьетнам в конечном счете не был иностранным государством - это был Вьетнам, их Вьетнам); бар был окутан смутной неопределенностью, как будто время остановилось. Ему казалось, что вьетнамские девушки - американки, его соотечественницы, а негры - иностранцы. В глубине зала вьетнамский электрооджаз играл рок-н-ролл, но музыка казалась иностранной: все эти блюзы и роки, такие бешено негритянские, казались тоже чужими - скорее африканскими, чем американскими, словно негры привезли этот оркестр с собой из Африки.
Она сказала, что ее зовут Тинь.
- Тан?- переспросил он.
- Нет,- сказала она,- Тинь.
- А,- сказал он,- Тин.
- Нет,- сказала она,- Тинь.
- Тин?- сказал он.
- Да,- сказала она.
И все их разговоры были такими же. Ему не очень хотелось назначать ей свидание, он был способен на многое, только не на это. Но они тут были с ним очень любезны, и он считал неудобным просто встать и уйти, опасаясь, что негры истолкуют это как проявление расовой неприязни - а так оно и было на самом деле - и оскорбятся. Поэтому он принялся многословно и громко договариваться с девушкой о встрече. Но она не понимала его, и один из негров, говоривший по-вьетнамски, пришел ему на помощь, но это только еще больше смутило его, так как он вовсе не собирался на самом деле встречаться с нею на другой день возле "Мажестика". Наконец они договорились, Бопре выпил еще и собрался уходить, но негры к этому времени прониклись к нему такой симпатией, что один из них, высокий, худой малый, его переводчик, взялся проводить его до гостиницы и, догадываясь о настроении Бопре сказал:
- Послушай, не расстраивайся, не так уж эго все плохо, и нам так нравится: если бы мы и могли, все равно ничего бы менять не стали. Мамасан здесь с нами считается и не разбавляет виски водой. Коньяк здесь настоящий, и девушкам подают такой же, как нам. А в заведении, куда ходят белые? Не прими на свой счет, я ведь не в осуждение, но там платят по пятьсот пиастров за девочку! Пятьсот пиастров за такую кроху! А здесь нам это обходится в сто пятьдесят - двести пиастров, и девушки такие же, если не лучше.
Бопре кивнул и сказал, что все было хорошо, все было прекрасно и он обязательно еще раз придет в этот бар.
- Непременно приходи, потому что ты понравился ребятам и они обидятся, если ты не придешь.
На Бопре этот вечер произвел самое тягостное впечатление, и в то же время он был растроган; его ужаснуло существование этого мира и то, что он нечаянно попал в него, и растрогало их стремление этот мир сберечь; он впервые задумался над тем, что чувствуют негры, попадая в его мир. А потом он попытался представить, что происходит с шелковой пижамой, когда Большой Уильям возвращается в семинарию.
На следующий день он не пошел на свидание, не сомневаясь, что если девушка и придет (а в это он не верил, привыкнув считать, что эти люди никогда не держат слово и всегда опаздывают), то ее непременно кто-нибудь пригласит. Наверно, это будет белый офицер (в гостинице "Мажестик" останавливались только офицеры) - интересно, что бы он почувствовал, если бы узнал, что она из бара Большого Уильяма.
Весь следующий день он бесцельно слонялся по Сайгону. Два раза ел в китайских ресторанах и заглянул в несколько баров, где с грустью наблюдал, как крошечные семнадцатилетние девчонки хладнокровно обводят вокруг пальца офицеров, взрослых, женатых мужчин, и ловко стравливают поклонников, так что атмосфера все больше накаляется, а офицеры наперебой угощают шлюх дешевым пойлом, по виду похожим на виски, а по вкусу - на чай, а те потихоньку выливают из стаканов и требуют еще.
Вечер Бопре провел в заведении под названием "Красивый чайный домик". Стойка напоминала гигантскую подкову, но свободно было только одно место. Бопре сел рядом с лысым американцем, который говорил по-вьетнамски,- специалист по психологической войне, решил Бопре. Специалисты по психологической войне обычно знали вьетнамский язык, купались в деньгах и подцепляли самых лучших девочек. Лысый разговаривал с хорошенькой вьетнамкой, явно себе на уме. Она начала поглядывать на Бопре, а потом заговорила с ним по-вьетнамски. Лысый, оказавшийся совсем не американцем, а австралийцем, извинился перед Бопре за то, что беспокоит его, и перевел:
- Она говорит, что вы очень красивый. Она говорит, что ей девятнадцать лет - что, безусловно, вранье,- и что она с Севера - что, наверно, тоже вранье,- и что ей хочется виски - а вот это уже святая правда, приятель!
Бопре заказал; австралиец продолжал переводить, по-видимому получая от этого злорадное удовольствие. ("Она говорит, что такой храбрый, как вы, наверно, убил много-много вьетконговцев. Но конечно, нам не известно, янки, что она рассказывает про вас вьетконговцам"). Наконец австралиец с виноватым видом повернулся к Бопре и сказал:
- Послушайте, приятель, я весь день только и делаю, что перевожу с одного языка на другой, так что уже не разбираю, где какой. Но дело в том, что сейчас-то я не на службе, так что с вашего разрешения и разрешения этой дамы я ограничусь далее одним.
И он опять принялся болтать с девицей по-вьетнамски. Через несколько минут к Бопре подошла девушка, вначале безликая, как все остальные, но в очках, которые делали ее единственной в своем роде - учительницей среди учениц.
- Она утверждает, что говорит по-нашему,- сообщил австралиец.- Но вы не очень-то этому доверяйте.
Но она действительно кое-как объяснялась по-английски. Очки заинтересовали Бопре, как и чопорный вид, который они ей придавали. Впервые за этот долгий день он ощутил желание.
Все девушки были в белых платьях, как предписывалось правилами, но платья эти были настолько короткими и так туго обтягивали фигуру, что впечатление создавалось самое непристойное (край трусиков вырисовывался до того четко, что пилоты вертолетов, питавшие болезненное пристрастие ко всяческим сокращениям, изобрели новый термин: ВЛТ - видимая линия трусиков). Позже он смутно припомнил, что, разговаривая с девицей в очках, приуменьшил свой возраст на пять лет, объявил себя холостяком и, как ему казалось теперь, выставил себя круглым дураком. Потом он расспрашивал ее - она жила с родителями и четырьмя сестрами. Очевидно, на выяснение ее домашних обстоятельств ушло довольно много времени, потому что, когда девушку позвали к новому гостю (Бопре вдруг взревновал, совсем как те офицеры, над которыми он прежде посмеивался), австралиец повернулся к нему и сказал:
- Конечно, это не мое дело, приятель, но я бы не советовал ехать ночью к ней домой. Не стоит. Не по правилам. В этой стране очень много всяких правил, и с проститутками они воюют успешнее, чем с коммунистами. Ночью сутенеру легко обуздать такую девчонку, особенно если он видел ее в компании янки: выбирай, детка... либо полиция, либо вступай в банду... ну, вы понимаете. Конечно, если вы захотите, она с вами поедет - все эти девочки добрые и смирные. Но не надо их подводить. Лучше всего днем. Они тогда свободны - ну, вышла девушка из богатой семьи прогуляться с янки, только разве что одета получше. В эти часы им ничего не грозит.
Они продолжали разговаривать, и австралиец держался все более дружески, а Бопре чувствовал себя с ним гораздо непринужденнее, чем с американцами. В конце концов австралиец сказал, что завтра он уезжает в Кап-Сен-Жак и Бопре может воспользоваться для свидания с девушкой его квартирой. Бопре согласился и сказал об этом своей знакомой Лим Фун, которая как будто даже обрадовалась. Австралиец вручил Бопре ключ и дал ему необходимые инструкции.
В воскресенье Бопре нервничал, как подросток, не сомневаясь, что она не придет... не сомневаясь, что она придет и полиция схватит ее, как только она переступит порог квартиры. Она опоздала на пятнадцать минут, и, когда он уже решил, что она и не собиралась приходить, а только посмеялась над ним, она вдруг явилась - в плотно облегающих прогулочных штанах, в плотно облегающей блузке и без очков.
Но он продолжал нервничать - против него было все: и непривычная обстановка чужой квартиры, и мысль о полиции за дверью, и резкая прохлада, которой веяло от огромного аппарата для кондиционирования воздуха (позже он вспоминал сначала прохладу и шум аппарата и только уже потом - девушку). При свете дня даже ее английский казался хуже, чем вчера. В баре, наполненном табачным дымом и парами виски, объясняться было почему-то проще, теперь же они как будто с трудом понимали друг друга. Несколько минут они пытались разговаривать, но он чувствовал, что она не воспринимает его слов. ("Я рад, что вы здесь".- "Вы - что?" - "Я рад, счастлив, что вы здесь".- "Вы не счастлив - я здесь?"- "Нет, я счастлив, счастлив, что вы здесь".- "Извините"). Так что оставалось только лечь в постель. Но у него ничего не получалось.
- Вы не любить Лим Фун,- сказала она.
Нет, сказал он. Она ему очень нравится. Но снова, чем больше он говорил, тем меньше она его понимала. Он попробовал заснуть, надеясь, что потом дело пойдет лучше, но не смог - мешали яркий солнечный свет и шум аппарата. Это привело его в еще большее уныние.
Лим Фун встала с кровати и, не одеваясь, принялась ходить по комнате, рассматривая валявшиеся повсюду журналы. Почти все это были старые номера "Плейбоя". Ей особенно нравились цветные вклейки, и она спросила, нельзя ли взять одну себе. Он было не позволил, но, увидев, как она огорчилась, разрешил. Она вырвала вклейку, быстро оделась и, довольная, ушла. Бопре начал медленно одеваться. Он не сомневался, что австралиец заметит пропажу вклейки и подумает на него (но не оставлять же записку с извинением, что вклейка очень понравилась вьетнамке и он не мог ей отказать!). Он знал, что ни в эту квартиру, ни в тот бар он уже никогда не вернется.
***
- Мне так и показалось, что вы устали больше обычного,- продолжал Андерсон.- Значит, отпуск выдался тяжелый? В Сайгоне вам от них проходу нет?
- Вот именно,- согласился Бопре.- От этого и устаешь.
- Говорят, одна была в очках и смахивала на учительницу?
- Кто вам сказал?- спросил Бопре, ухмылкой подтверждая свою победу.
- Ну, в этой стране ничто не остается тайной. И всем вашим прочим подружкам это тоже известно. Ну и как? Хорошо?
- Вы же знаете, в очкастых всегда что-то есть.
- Значит, они и правда такие?
- Даже здесь. Здесь еще хуже.- Бопре снова ухмыльнулся:- Вернее, лучше.
- Черт побери, меня это всегда занимало. Но ведь за это надо платить.
- Вообще - да. Но она, конечно, сказала, что денег ей не нужно. Хотя во второй раз они уже просят вас купить одеколон, потом одеколон и чулки, а там - одеколон, чулки, лак для ногтей, духи, кофточку, сигареты для отца, молоко для младенцев сестры. Поэтому я дал ей деньги. Проще. Так у них нет на тебя никаких прав.
- Видно, рассчитывают прибрать к рукам и выскочить замуж.
- Замуж - нет, об этом они не мечтают. Разве что когда имеют дело с каким-нибудь молодым солдатом. Нет, они просто хотят, чтоб ты был при них, чтоб и подружки, которые работают в том же баре, могли попользоваться. Они ведь нежно любят друг друга. Как и американские девицы.
Некоторое время они шли молча. Бопре шагал немного впереди.
- Бьюсь об заклад, что со времени второй мировой войны вам не приходилось столько ходить пешком,- сказал Андерсон.
- Тогда мы ходили меньше. Мы и не знали, как тогда было хорошо, и не ценили своего счастья. Конечно, мы ходили, но по прямой. Боновые заграждения, пляжи Нормандии, а там - Париж и Берлин. Вот и все. Ни отступлений, ни обходов - только вперед. Компас и здравый смысл - вот все, что было нужно. Здесь же надо кружить, черт побери, а потом возвращаться на базу; на следующий день опять выходить, снова тащиться по кругу, снова возвращаться на базу, чтобы на следующий день опять идти, только в обратном направлении. С каждым днем круги становятся шире и бессмысленнее. Так и мотаешься изо дня в день то взад, то вперед. Во Франции было другое, там мы всегда знали, где находимся, какое расстояние прошли и сколько осталось идти. А в этой проклятой стране... черт побери, да если бы я знал, сколько я тут прошел, то, наверно, умер бы от разрыва сердца. Уж конечно, не меньше, чем от Нормандии до Берлина и обратно.
Бопре помолчал, а потом сказал с нежностью, будто только сейчас это понял (и действительно, в свое время он этого не замечал):
- И как прекрасно пахла Франция!
Его последний отпуск длился целых три дня, так как был приурочен к одному из бесчисленных вьетнамских праздников ("дню поминовения сдохшего козла",- как выразился Ролстон). Отправившись вместе с тремя другими советниками, он, едва доехав до города, незаметно отстал от них и остановился в дешевой гостинице на окраине Шолона, подальше от того района, где обычно останавливались американцы, и в частности офицеры. В гостинице жили несколько штатских вьетнамцев (по-видимому, провинциальных чиновников) и китайские торговцы из Сингапура. Иногда там останавливались солдаты войск специального назначения из горных районов - они приезжали группами по три человека, всю ночь пили, буянили и орали. Ему запомнился один случай. Из их номера донеслось: "Я позвать полицию! Я позвать вьетнамскую полицию! Вы нет хороший. Я не бояться вас, но я позвать полицию". Потом раздался визг, и другой голос закричал: "Вызывай, подлюга, а я скажу им, чтоб тебя вышибли из гостиницы, потому что у тебя пятьдесят семь болезней, черт побери!" Снова визг, смех и - тишина. Солдаты из войск специального назначения пьянствовали все три дня своего отпуска до самого утра, когда за ними прислали грузовик и отвезли их, пьяных, на аэродром специальных войск в Таншоннят, откуда, пьяные и небритые, они были доставлены на свои маленькие базы у границы Лаоса. Именно в этом и заключались особые преимущества войск специального назначения. Начальство не требовало, чтобы в последний день отпуска вы протрезвлялись, с него было достаточно, чтобы ваше тело было доставлено в часть вовремя.
В номерах этой гостиницы не водилось ни мыла, ни полотенец, а туалетная бумага была такой скользкой, что солдаты войск специального назначения крали ее в больших количествах, чтобы в лагере чистить сапоги. Но в отличие от "Континенталя", "Мажестика" и "Каравеллы" здесь можно было привести к себе в номер девицу, а кроме того, Бопре тут не приходилось общаться с теми же офицерами, с которыми он целую неделю жил в семинарии (он знал, как они выглядят голыми, знал, кто из них чистит зубы, а кто нет, а они в свою очередь знали о нем все и, может быть, даже больше, чем он о них, а потому ему вовсе не хотелось общаться с ними в Сайгоне, чтобы потом все подробности его отпуска стали известны в Мито). В этой гостинице он мог рассчитывать хоть на какое-то уединение. Несколько раз он действительно приводил к себе проституток - иногда даже довольно хорошеньких,- но он чувствовал себя неловко и смущался из-за предосторожностей, которые принимал, чтобы скрыть, сколько у него денег и кто он такой, словно одной неблаговидной профессии с них было мало и они должны были обязательно иметь и вторую, столь же неблаговидную. Поэтому ни одна из них ему даже не запомнилась, хотя в своих ожиданиях он не был разочарован; во всяком случае - что в какой-то мере символично,- ни с одной он не захотел встретиться снова. Ни разу во время этих своих отпусков он не испытал не то что любви, но хотя бы страсти, настолько сильной, чтобы у него могло появиться желание снова увидеть именно эту женщину. Они приходили, делали, что от них требовалось, и исчезали. Он не запомнил ни их имен, ни даже внешности - из восьми только одна сохранилась у него в памяти благодаря пышной груди, странно контрастировавшей с миниатюрной фигуркой, и еще потому, что она все время словно спала.
***
Последний отпуск в город, начавшийся с вечера в пятницу, оказался хуже всех предыдущих. В Шолоне Бопре сразу пошел в ресторан, оглядел зал и вдруг увидел Большого Уильяма, который завопил:
- Поглядите-ка, кого Иисус Христос и его вьетнамский коллега Будда послали Большому Уильяму к ужину - капитана Бопэя, лучшего друга Большого Уильяма. Большой Уильям знает, что капитан - человек компанейский.
Бопре сел за его столик, не слишком радуясь обществу Большого Уильяма. Не то чтобы негр вызывал у него антипатию, наоборот, он скорее нравился ему, чем не нравился (хотя Большой Уильям отождествлялся для него с Вьетнамом, все они тут носили это клеймо, и ни к кому невозможно было питать особой симпатии), но свои отпуска в Сайгоне Бопре предпочитал проводить в одиночестве. Они недурно поужинали. Бопре, сам того не замечая, поносил страну и войну больше обычного, а Большой Уильям старался его подбодрить:
- Не унывай, малыш. Конечно, здесь совсем не так, как ты ожидал или как хотел. Здесь совсем не то. Да ведь если бы здесь было уютно и красиво, так тебя бы сюда и не послали. Уж положись на Большого Уильяма. И ничего сделать нельзя - в этом я убедился давным-давно и в другой стране. Так было до твоего приезда, так есть сейчас, и так будет после нас с тобой. А потому остается только не унывать и улыбаться. Большой Уильям всегда улыбается, даже когда унывает, так что все кругом думают: Большой Уильям не унывает. Большой Уильям молодец. Вот и ты не унывай и помни одно: если бы тут было хорошо, нас бы тут не было. Будь здесь красиво и уютно, так был бы и закон, запрещающий таким, как мы, приезжать сюда, приезжали бы только те, кто делает политику, и в советниках у вьетнамцев ходили бы наши сенаторы и конгрессмены. Вот помни обо всем этом, и не будешь унывать.
Но Бопре оставался угрюмым и даже злым, и это как будто огорчало Большого Уильяма.
- Не так уж все плохо, малыш, не так все плохо. Оно, правда, и не хорошо, но и не так уж плохо. Да и вообще, что скверного может с тобой тут случиться? Только одно - что в один прекрасный день мы пойдем на операцию и нас увидит вьетконговец. Большого Уильяма он не тронет, потому что черные парни ему нравятся и он здорово сочувствует им, знает, как они бедствуют в Алабаме и ходят в одних черных пижамах, а вот ты - белый, и тебя он прихлопнет. Это будет самое скверное, а потом тебя обернут флагом, и отправят домой как героя, и устроят тебе пышные похороны с оркестром и печальной музыкой, а в газете на первой странице под крупным заголовком напечатают, что капитан Бопэй - великий герой; и совершил много великих подвигов, и убил много вьетконговцев, пока они не убили его, и в газете поместят твой портрет, где ты не смеешься, а смотришь настоящим героем. И все будут плакать по тебе - и девушки, которые тебя любили, и девушки, которые натянули тебе нос. Вот самое скверное, что может случиться. А теперь возьми Большого Уильяма - сидит в засаде тот же самый вьетконговец, но тебя он не прихлопнет, потому что ему нравятся белые парии, а прихлопнет Большого Уильяма, потому что он слыхал, будто в Америке все черные разъезжают на собственных кадиллаках, а это ему не нравится. Ну, в ту же минуту война для Большого Уильяма кончится. А потом черную тушу Большого Уильяма положат в самый большой ящик, какой только можно найти, и тоже отправят, и все гробовщики взвоют, потому что он такой большой, что ему все их ящики малы. Ну, отправят его самой малой скоростью, и через год-другой, когда уж и эта война, может, кончится, прибудет ящик в Пиккенс, штат Алабама. Но с оркестром его в Пиккенсе не встретят. Нет, сэр. А сообщение об этом напечатают на пятьдесят седьмой странице, в разделе "Что затевают наши цветные друзья", и в самом низу страницы будет короткая заметка без фотографии - дескать, Большой Уильям, черный негр мужского пола, который, по утверждению военного ведомства, родился в нашем городе, умер где-то в азиатской стране. Насчет героя ничего сказано не будет, а просто: "Мы всегда говорили, что он так кончит, если это тот самый Большой Уильям, которого мы знали, так как с ним всегда были одни хлопоты, и здесь он вел себя нагло, и никакой ценности для армии не представлял, и пусть это послужит вам всем уроком". Так что тебе жаловаться особенно не на что. Только оба мы что-то нарушаем первое правило Большого Уильяма и скулим. Поэтому лучше нам пойти в один веселый бар, который знает Большой Уильям.
Они вышли, и Большой Уильям продолжал рассказывать о своем баре, утверждая, что лучшего нет во всем городе ("Туда ходят только те, кто не унывает"). Бопре не знал, удобно ли ему идти в этот бар. Негр заметил его нерешительность и сначала не понял ее причины, а потом замотал головой и сказал, чтобы он не беспокоился: в этом баре умеют веселиться и даже дежурят около него самые веселые полицейские в городе.
Пока они шли, Большой Уильям признался, что этот бар правится ему из-за мамасан (хозяйки заведения), которая все еще лучше любой из ее девчонок: женщина в самом соку, не чета этим чирикающим цветочкам, настоящая женщина, и денег с него не берет. Он иногда ночует у нее на квартире - такой, что только ахнешь: везде кондиционированный воздух - аппаратов там больше, чем в каком-нибудь генеральском доме, и слуг не меньше шести, хотя все они лилипуты даже для вьетнамцев, а постель вся из шелка, и одежда для него тоже шелковая, и всякие напитки, фрукты и коньяк. Веселое место, не то что в Пиккенсе, штат Алабама. Мамасан редкостная женщина и хочет выйти за него замуж, но кому охота, черт побери, оставаться на всю жизнь в этой стране, даже если тебя одевают в шелковое белье и кладут па шелковую постель, а утром подают коньяк и фрукты. Мамасан даже готова принять его в свое дело: она обещает открыть для него несколько баров.
- Подумать только! Всякий раз, как американский солдат - белый или черный - подцепит девочку, Большой Уильям получает свою долю. Он станет королем этого города. Его именем назовут бары, а один бар назовут и в честь Пиккенса, штат Алабама, где родился Большой Уильям. "Пиккенс-бар". Большой Уильям разбогатеет и станет помогать всем американским солдатам куда лучше Службы организации досуга войск. Бопре думал, что Большой Уильям просто врет, но, когда они поднялись по лестнице и постучали в дверь бара, к ним вышла сама мамасан и, воскликнув: "Мой Болесой Вилиям!", расцеловала его, а потом вежливо пожала руку Бопре.
- Ты не изменял мне, Уильям?- спросила она.
- Ах, мамасан, Большой Уильям так же чист, как был, когда уходил от тебя,- ответил негр.- Хотя, может быть, и не по своей вине.
Войдя следом за мамасан в бар, Бопре остановился в изумлении: зал заполняли одни негры. Все посетители были негры - высокие и толстые, офицеры и рядовые. Ничего подобного он еще не видел. Точно он попал в совсем другой мир. Девушки все были вьетнамки, их обычная белоснежная одежда напоминала тут халаты медицинских сестер. Он заметил, что кожа у них гораздо светлее, чем обычно. Может быть, они кажутся светлее, потому что кожа посетителей так темна, или же мамасан, женщина, несомненно, умная, нарочно подбирала девушек посветлее?
Бопре было очень не по себе, он не мог сделать шага вперед. Большой Уильям придвинулся к нему поближе. Бопре ясно ощущал возникшее напряжение и взгляды, обращенные на него со всех сторон.
Тишина накатилась двумя волнами: сначала замолчали негры, а немного позже - вьетнамские девушки, сообразившие, что происходит что-то необычное и надо молчать. Наконец высокий, стройный негр с лицом черного индейца (Бопре принял его за офицера, а потом узнал, что он какой-то специалист) повернулся вполоборота к вошедшим и сказал, ни на кого не глядя:
- Капитан Редферн, что же вы не познакомите нас с советником вашей дивизии? Назовите нам фамилию полковника.
- Эбен!- сказал другой.- Это вовсе не полковник. Это генерал. Генерал Харкинс. Большой Уильям привел к нам генерала Харкинса.
- Нет, это не генерал Харкинс,- возразил первый.- Генерал Харкинс стройный и молодой.
В глубине зала какой-то негр спросил своего соседа так, чтобы услышал Бопре:
- Как по-твоему, кто это?
- Вьетконговец?
- На тех вьетконговцев, которых я видел, он что-то не похож.
- Да. Но вьетконговцы, когда идут в бар, выглядят иначе. Уходя в увольнение, они снимают черные пижамы.
- Разве?
Наступило короткое молчание, после чего еще один негр, в дорогом спортивном пиджаке, широком в плечах и узком в талии, сказал:
- Джентльмены, как по-вашему, этот генерал заслуживает права посещать наш клуб? Капитан Редферн, вы, надеюсь, не забыли, что мы очень разборчивы, сэр? Очень.
Все, кроме Бопре и Большого Уильяма, засмеялись. Большой Уильям отошел от Бопре к стойке.
- Этот человек - друг Большого Уильяма. Он пришел сюда с Большим Уильямом. Он спросил Большого Уильяма: "Большой Уильям, ничего, если я пойду с тобой в этот самый лучший бар, о котором ты мне рассказывал?" И Большой Уильям ответил: "Конечно! Ты мой друг, а в этом баре собираются веселые ребята, но они все джентльмены". А потом Большой Уильям сказал, что в этой загаженной стране только это место еще не загажено. Еше не погублено. А что вы сделали? Выставили Большого Уильяма обманщиком, и вот сейчас, в восемь часов сорок семь минут вечера, Большой Уильям приносит извинения своему другу капитану Бопэю. Я приношу свои извинения.
Тут кто-то крикнул, чтобы Большой Уильям перестал корчить из себя белого баптистского проповедника, а другой протянул Бопре стакан, сказав: "Пожалуйста, генерал", и на время Бопре признали равноправным посетителем.
Потом появилась мамасан, взяла Большого Уильяма за локоть и увела с собой. Большой Уильям повернулся к Бопре, отдал честь и сказал:
- Она приготовила для Большого Уильяма совсем новенькие шелковые штучки, так что приходится сдаться! Пока, детка, и не вешай нос. А я иду на шелковую смерть!
Сначала Бопре чувствовал себя словно в приемной у зубного врача. Но негры держались очень любезно, подвели к нему девушку и познакомили с ним. Один что-то сказал ей по-вьетнамски, и она хихикнула. Другой перевел:
- Он говорит, что вы белый сенегалец. Они называют нас всех сенегальцами. Сперва они всех цветных считали сенегальцами, а это совсем не такая уж похвала, потому что сенегальцы, кажется, очень им насолили, когда воевали здесь за французов, но теперь это просто шутка.
Бопре заказал девушке три порции виски и улыбался ей и держал ее за руку, но неприятный осадок не исчезал, и ему хотелось уйти. У него было такое ощущение, что негры разговаривают на каком-то иностранном языке и происходит все это в каком-то иностранном государстве (Вьетнам в конечном счете не был иностранным государством - это был Вьетнам, их Вьетнам); бар был окутан смутной неопределенностью, как будто время остановилось. Ему казалось, что вьетнамские девушки - американки, его соотечественницы, а негры - иностранцы. В глубине зала вьетнамский электрооджаз играл рок-н-ролл, но музыка казалась иностранной: все эти блюзы и роки, такие бешено негритянские, казались тоже чужими - скорее африканскими, чем американскими, словно негры привезли этот оркестр с собой из Африки.
Она сказала, что ее зовут Тинь.
- Тан?- переспросил он.
- Нет,- сказала она,- Тинь.
- А,- сказал он,- Тин.
- Нет,- сказала она,- Тинь.
- Тин?- сказал он.
- Да,- сказала она.
И все их разговоры были такими же. Ему не очень хотелось назначать ей свидание, он был способен на многое, только не на это. Но они тут были с ним очень любезны, и он считал неудобным просто встать и уйти, опасаясь, что негры истолкуют это как проявление расовой неприязни - а так оно и было на самом деле - и оскорбятся. Поэтому он принялся многословно и громко договариваться с девушкой о встрече. Но она не понимала его, и один из негров, говоривший по-вьетнамски, пришел ему на помощь, но это только еще больше смутило его, так как он вовсе не собирался на самом деле встречаться с нею на другой день возле "Мажестика". Наконец они договорились, Бопре выпил еще и собрался уходить, но негры к этому времени прониклись к нему такой симпатией, что один из них, высокий, худой малый, его переводчик, взялся проводить его до гостиницы и, догадываясь о настроении Бопре сказал:
- Послушай, не расстраивайся, не так уж эго все плохо, и нам так нравится: если бы мы и могли, все равно ничего бы менять не стали. Мамасан здесь с нами считается и не разбавляет виски водой. Коньяк здесь настоящий, и девушкам подают такой же, как нам. А в заведении, куда ходят белые? Не прими на свой счет, я ведь не в осуждение, но там платят по пятьсот пиастров за девочку! Пятьсот пиастров за такую кроху! А здесь нам это обходится в сто пятьдесят - двести пиастров, и девушки такие же, если не лучше.
Бопре кивнул и сказал, что все было хорошо, все было прекрасно и он обязательно еще раз придет в этот бар.
- Непременно приходи, потому что ты понравился ребятам и они обидятся, если ты не придешь.
На Бопре этот вечер произвел самое тягостное впечатление, и в то же время он был растроган; его ужаснуло существование этого мира и то, что он нечаянно попал в него, и растрогало их стремление этот мир сберечь; он впервые задумался над тем, что чувствуют негры, попадая в его мир. А потом он попытался представить, что происходит с шелковой пижамой, когда Большой Уильям возвращается в семинарию.
На следующий день он не пошел на свидание, не сомневаясь, что если девушка и придет (а в это он не верил, привыкнув считать, что эти люди никогда не держат слово и всегда опаздывают), то ее непременно кто-нибудь пригласит. Наверно, это будет белый офицер (в гостинице "Мажестик" останавливались только офицеры) - интересно, что бы он почувствовал, если бы узнал, что она из бара Большого Уильяма.
Весь следующий день он бесцельно слонялся по Сайгону. Два раза ел в китайских ресторанах и заглянул в несколько баров, где с грустью наблюдал, как крошечные семнадцатилетние девчонки хладнокровно обводят вокруг пальца офицеров, взрослых, женатых мужчин, и ловко стравливают поклонников, так что атмосфера все больше накаляется, а офицеры наперебой угощают шлюх дешевым пойлом, по виду похожим на виски, а по вкусу - на чай, а те потихоньку выливают из стаканов и требуют еще.
Вечер Бопре провел в заведении под названием "Красивый чайный домик". Стойка напоминала гигантскую подкову, но свободно было только одно место. Бопре сел рядом с лысым американцем, который говорил по-вьетнамски,- специалист по психологической войне, решил Бопре. Специалисты по психологической войне обычно знали вьетнамский язык, купались в деньгах и подцепляли самых лучших девочек. Лысый разговаривал с хорошенькой вьетнамкой, явно себе на уме. Она начала поглядывать на Бопре, а потом заговорила с ним по-вьетнамски. Лысый, оказавшийся совсем не американцем, а австралийцем, извинился перед Бопре за то, что беспокоит его, и перевел:
- Она говорит, что вы очень красивый. Она говорит, что ей девятнадцать лет - что, безусловно, вранье,- и что она с Севера - что, наверно, тоже вранье,- и что ей хочется виски - а вот это уже святая правда, приятель!
Бопре заказал; австралиец продолжал переводить, по-видимому получая от этого злорадное удовольствие. ("Она говорит, что такой храбрый, как вы, наверно, убил много-много вьетконговцев. Но конечно, нам не известно, янки, что она рассказывает про вас вьетконговцам"). Наконец австралиец с виноватым видом повернулся к Бопре и сказал:
- Послушайте, приятель, я весь день только и делаю, что перевожу с одного языка на другой, так что уже не разбираю, где какой. Но дело в том, что сейчас-то я не на службе, так что с вашего разрешения и разрешения этой дамы я ограничусь далее одним.
И он опять принялся болтать с девицей по-вьетнамски. Через несколько минут к Бопре подошла девушка, вначале безликая, как все остальные, но в очках, которые делали ее единственной в своем роде - учительницей среди учениц.
- Она утверждает, что говорит по-нашему,- сообщил австралиец.- Но вы не очень-то этому доверяйте.
Но она действительно кое-как объяснялась по-английски. Очки заинтересовали Бопре, как и чопорный вид, который они ей придавали. Впервые за этот долгий день он ощутил желание.
Все девушки были в белых платьях, как предписывалось правилами, но платья эти были настолько короткими и так туго обтягивали фигуру, что впечатление создавалось самое непристойное (край трусиков вырисовывался до того четко, что пилоты вертолетов, питавшие болезненное пристрастие ко всяческим сокращениям, изобрели новый термин: ВЛТ - видимая линия трусиков). Позже он смутно припомнил, что, разговаривая с девицей в очках, приуменьшил свой возраст на пять лет, объявил себя холостяком и, как ему казалось теперь, выставил себя круглым дураком. Потом он расспрашивал ее - она жила с родителями и четырьмя сестрами. Очевидно, на выяснение ее домашних обстоятельств ушло довольно много времени, потому что, когда девушку позвали к новому гостю (Бопре вдруг взревновал, совсем как те офицеры, над которыми он прежде посмеивался), австралиец повернулся к нему и сказал:
- Конечно, это не мое дело, приятель, но я бы не советовал ехать ночью к ней домой. Не стоит. Не по правилам. В этой стране очень много всяких правил, и с проститутками они воюют успешнее, чем с коммунистами. Ночью сутенеру легко обуздать такую девчонку, особенно если он видел ее в компании янки: выбирай, детка... либо полиция, либо вступай в банду... ну, вы понимаете. Конечно, если вы захотите, она с вами поедет - все эти девочки добрые и смирные. Но не надо их подводить. Лучше всего днем. Они тогда свободны - ну, вышла девушка из богатой семьи прогуляться с янки, только разве что одета получше. В эти часы им ничего не грозит.
Они продолжали разговаривать, и австралиец держался все более дружески, а Бопре чувствовал себя с ним гораздо непринужденнее, чем с американцами. В конце концов австралиец сказал, что завтра он уезжает в Кап-Сен-Жак и Бопре может воспользоваться для свидания с девушкой его квартирой. Бопре согласился и сказал об этом своей знакомой Лим Фун, которая как будто даже обрадовалась. Австралиец вручил Бопре ключ и дал ему необходимые инструкции.
В воскресенье Бопре нервничал, как подросток, не сомневаясь, что она не придет... не сомневаясь, что она придет и полиция схватит ее, как только она переступит порог квартиры. Она опоздала на пятнадцать минут, и, когда он уже решил, что она и не собиралась приходить, а только посмеялась над ним, она вдруг явилась - в плотно облегающих прогулочных штанах, в плотно облегающей блузке и без очков.
Но он продолжал нервничать - против него было все: и непривычная обстановка чужой квартиры, и мысль о полиции за дверью, и резкая прохлада, которой веяло от огромного аппарата для кондиционирования воздуха (позже он вспоминал сначала прохладу и шум аппарата и только уже потом - девушку). При свете дня даже ее английский казался хуже, чем вчера. В баре, наполненном табачным дымом и парами виски, объясняться было почему-то проще, теперь же они как будто с трудом понимали друг друга. Несколько минут они пытались разговаривать, но он чувствовал, что она не воспринимает его слов. ("Я рад, что вы здесь".- "Вы - что?" - "Я рад, счастлив, что вы здесь".- "Вы не счастлив - я здесь?"- "Нет, я счастлив, счастлив, что вы здесь".- "Извините"). Так что оставалось только лечь в постель. Но у него ничего не получалось.
- Вы не любить Лим Фун,- сказала она.
Нет, сказал он. Она ему очень нравится. Но снова, чем больше он говорил, тем меньше она его понимала. Он попробовал заснуть, надеясь, что потом дело пойдет лучше, но не смог - мешали яркий солнечный свет и шум аппарата. Это привело его в еще большее уныние.
Лим Фун встала с кровати и, не одеваясь, принялась ходить по комнате, рассматривая валявшиеся повсюду журналы. Почти все это были старые номера "Плейбоя". Ей особенно нравились цветные вклейки, и она спросила, нельзя ли взять одну себе. Он было не позволил, но, увидев, как она огорчилась, разрешил. Она вырвала вклейку, быстро оделась и, довольная, ушла. Бопре начал медленно одеваться. Он не сомневался, что австралиец заметит пропажу вклейки и подумает на него (но не оставлять же записку с извинением, что вклейка очень понравилась вьетнамке и он не мог ей отказать!). Он знал, что ни в эту квартиру, ни в тот бар он уже никогда не вернется.
***
- Мне так и показалось, что вы устали больше обычного,- продолжал Андерсон.- Значит, отпуск выдался тяжелый? В Сайгоне вам от них проходу нет?
- Вот именно,- согласился Бопре.- От этого и устаешь.
- Говорят, одна была в очках и смахивала на учительницу?
- Кто вам сказал?- спросил Бопре, ухмылкой подтверждая свою победу.
- Ну, в этой стране ничто не остается тайной. И всем вашим прочим подружкам это тоже известно. Ну и как? Хорошо?
- Вы же знаете, в очкастых всегда что-то есть.
- Значит, они и правда такие?
- Даже здесь. Здесь еще хуже.- Бопре снова ухмыльнулся:- Вернее, лучше.
- Черт побери, меня это всегда занимало. Но ведь за это надо платить.
- Вообще - да. Но она, конечно, сказала, что денег ей не нужно. Хотя во второй раз они уже просят вас купить одеколон, потом одеколон и чулки, а там - одеколон, чулки, лак для ногтей, духи, кофточку, сигареты для отца, молоко для младенцев сестры. Поэтому я дал ей деньги. Проще. Так у них нет на тебя никаких прав.
- Видно, рассчитывают прибрать к рукам и выскочить замуж.
- Замуж - нет, об этом они не мечтают. Разве что когда имеют дело с каким-нибудь молодым солдатом. Нет, они просто хотят, чтоб ты был при них, чтоб и подружки, которые работают в том же баре, могли попользоваться. Они ведь нежно любят друг друга. Как и американские девицы.
Некоторое время они шли молча. Бопре шагал немного впереди.
- Бьюсь об заклад, что со времени второй мировой войны вам не приходилось столько ходить пешком,- сказал Андерсон.
- Тогда мы ходили меньше. Мы и не знали, как тогда было хорошо, и не ценили своего счастья. Конечно, мы ходили, но по прямой. Боновые заграждения, пляжи Нормандии, а там - Париж и Берлин. Вот и все. Ни отступлений, ни обходов - только вперед. Компас и здравый смысл - вот все, что было нужно. Здесь же надо кружить, черт побери, а потом возвращаться на базу; на следующий день опять выходить, снова тащиться по кругу, снова возвращаться на базу, чтобы на следующий день опять идти, только в обратном направлении. С каждым днем круги становятся шире и бессмысленнее. Так и мотаешься изо дня в день то взад, то вперед. Во Франции было другое, там мы всегда знали, где находимся, какое расстояние прошли и сколько осталось идти. А в этой проклятой стране... черт побери, да если бы я знал, сколько я тут прошел, то, наверно, умер бы от разрыва сердца. Уж конечно, не меньше, чем от Нормандии до Берлина и обратно.
Бопре помолчал, а потом сказал с нежностью, будто только сейчас это понял (и действительно, в свое время он этого не замечал):
- И как прекрасно пахла Франция!

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В одиннадцать тридцать отряд в беспорядке шел по берегу канала - настала одна из тех спокойных минут, когда прежние страхи забылись и, одурманенные жарой и однообразием, солдаты словно впали в забытье. И тут их обстреляли. Слева, с противоположного берега канала, раздались один за другим три выстрела - стреляли, по-видимому, с небольшого расстояния. Пули шлепнулись недалеко от центра колонны, рядом с тем местом, где шел Андерсон. Он повернулся в ту сторону, откуда стреляли, и быстро отдал приказ по-вьетнамски: троим велел идти с ним, а четвертого отправил в хвост колонны сообщить Тыонгу о своем решении и предупредить, чтобы тот не посылал никаких подкреплений, если не завяжется серьезный бой, а в таком случае он услышит стрельбу из автоматического оружия, так как его, Андерсона, группа автоматов с собой не берет.
Андерсон чувствовал, что это не засада. Засада выдает себя залпом из автоматов: несколько выстрелов из обыкновенной винтовки - это только бессмысленное предупреждение противника, обесценивающее всю операцию. Эти же три выстрела подряд, по мнению Андерсона, означали, что стрелял один человек, который хотел создать впечатление, что он не один. Впрочем, черт побери, думал он, разве тут угадаешь? Стараешься рассуждать, как они, и попадаешь в беду: ждешь хитрости, а они выбирают простейший маневр; ждешь простейшего маневра, а они выбирают хитрость.
Андерсон подошел со своей группой к берегу канала, и еще две пули шлепнулись рядом. Он поставил одного вьетнамца выше по каналу, другого - ниже, а третьему приказал стоять на месте. Они должны были прикрывать его, пока он будет переходить канал, и ждать, пока он не доберется до противоположного берега. Он не хотел, чтобы они все четверо увязли в жидкой грязи, если обнаружится, что у противника все-таки есть автоматы. Солдаты кивнули. Он спросил по-вьетнамски, понимают ли они его, и велел одному из них повторить приказ. К его удивлению, вьетнамец повторил все правильно.
- Лейтенант поплывет?- спросил вьетнамец.
- Лейтенант думает, что поплывет,- ответил Андерсон.- А вы плавать умеете?
Солдат ответил:
- Там видно будет.
Андерсон подождал, пока снайпер даст третью очередь, и, когда пули упали еще ближе, быстро шагнул в воду и сразу погрузился выше пояса. Он осторожно двинулся вперед, вглядываясь в заросли и стараясь угадать, где прячется снайпер. Он все еще не мог сказать точно, откуда стреляли, хотя и установил примерное направление. Он был один в канале и шел медленно, с трудом преодолевая сопротивление воды и вытаскивая ноги из вязкой тины. Он знал, что представляет собой удобную мишень, и очень боялся, его движения были замедленными, как во сне. Он вспоминал, что им говорили на последнем инструктаже: "Вьетконговский пехотинец отличается упорством и скорее умрет, чем оставит позицию; он фанатически предан своей идеологии, потому что всю жизнь, с младенческого возраста, его подвергают идеологической обработке. Но он плохо стреляет. Да, господа, стрелок он неважный. И снайперы у них обычно никуда не годятся, потому что стреляют без очков. У противника нет очков, потому что очки коммунистам не по карману. Наши врачи проверяли их и установили, что из-за плохого питания, из-за почти полного отсутствия в их рационе мяса и белков зрение у них обычно слабое. А очков им не дают - вот почему они стреляют хуже нас. Они храбры, господа, но близоруки. Помните об этом".
Андерсон помнил об этом и надеялся, что это правда.
На противоположном берегу он видел только кусты и деревья. Помни, сказал он себе, что враг может сидеть на дереве - как опять-таки предупреждали на инструктаже: "Вьетконговцы часто занимают позиции на верхушках деревьев, как это делали японцы, а потому ищите их там. Запомните, что я вам говорил,- это может спасти вам жизнь. Вот вы идете по джунглям, потные и грязные. Вдруг раздается выстрел, и, поскольку ваши толстые лапы ступают на землю, вы воображаете, будто и снайпер стоит на земле. Но вы ошибаетесь: он сидит в третьем ярусе, снимает мерку с вашей головы, считает ваших солдат и готовится попортить вам головной убор. Вьетконговцы любят джунгли, а что такое джунгли? Деревья. Множество деревьев. Помните об этом, господа, и ищите их на деревьях".
Андерсон ушел с этого инструктажа, чувствуя, что все вьетконговцы сидят на деревьях; и даже теперь он смотрел больше на деревья, чем на землю.
Вьетнамцы у него за спиной открыли огонь, но снайпер молчал. Андерсон добрался до середины канала, где глубина была наибольшей - над водой оставалась только его голова, часть шеи и вытянутые руки с винтовкой. Наконец он добрался до противоположного берега. Он махнул вьетнамцам, чтобы они перестали стрелять, и, не выпуская винтовки (он боялся положить ее на берег, опасаясь, как бы кто-нибудь не выскочил из-за кустов и не схватил ее), ползком вскарабкался по откосу, но снайпер по-прежнему молчал. Охваченный страхом, Андерсон проскочил первый ряд кустов, так как не знал, что там может оказаться (Ролстон однажды вот так же прошел сквозь кусты и увидел прямо перед собой вьетконговца; растерявшись от неожиданности, они молча смотрели друг на друга, а потом вьетконговец вдруг повернулся и побежал - правда, Бопре потом утверждал, что побежал-то Ролстон, а вьетконговец сплоховал, дал ему уйти и, испугавшись, наврал своему начальству, так что теперь Ролстон во вьетконговских списках числится убитым в бою и потому может ничего не опасаться - убивать его вторично вьетконговцы не посмеют).
Андерсон углубился в заросли и, выбрав удобную позицию, расстрелял обойму: несколько пуль он послал влево, несколько прямо и несколько вправо от себя, а последнюю - в древесную крону, как дань уважения своим инструкторам из форта Бэннинга. Все было по-прежнему тихо, он перезарядил винтовку и пошел дальше. Впереди просвистели две пули, на этот раз с более дальнего расстояния (или, может, ему так показалось). Значит, враг не ушел. Андерсон снова двинулся вперед: что-то подсказывало ему, что снайпер должен находиться чуть правее. Он был один, солдаты остались на противоположном берегу канала. Здесь пользы от них не было никакой, потому что они пошли бы прямо за ним и подняли бы шум, не говоря уж о том, что он мог бы получить пулю в спину - обычная опасность при продвижении гуськом. И тем не менее он чувствовал себя страшно одиноким - ведь он находился в их джунглях, они, возможно, видят его, наблюдают за ним, замечают то, чего он заметить не может. Да и кто знает, один там снайпер или их несколько? Он прошел еще немного. Двигался он медленно - и потому, что боялся, и потому, что кустарник был очень густой. Если бы он шел по часовому циферблату и в том месте на берегу канала, где он углубился в джунгли, стояла бы цифра шесть, то теперь он приближался бы к цифре один. Он шел, стреляя непрерывно. Время от времени он внезапно начинал стрелять в другую сторону. Вдруг где-то совсем рядом просвистела пуля. Стрелявший был теперь ближе, только уже не справа, а слева, примерно на цифре одиннадцать. Возбужденный, испуганный, Андерсон быстро пошел туда. Ветки царапали ему лицо и руки, но прикрыть лицо он не мог, так как руки были заняты винтовкой. Он расстрелял еще одну обойму: два выстрела подряд, три выстрела подряд и три через равные интервалы - настоящая музыкальная гамма.
Ответных выстрелов не раздалось, и он торопливо зашагал по джунглям, смыкавшимся и вокруг него, и вокруг его противника. Потом последовал ответ - двойной посвист, два выстрела, только у вьетконговца он прозвучал глуше, чем у него,- но тут Андерсон рассердился, потому что на этот раз звук донесся справа, от цифры один, где он только что был. Он тихо выругался и бросился вправо, сознавая, что делает глупость, что нарушает все правила, которым его обучали, что лезет в ловушку и дает им возможность взять в плен американского офицера. А в Бэннинге их специально предупреждали, чтобы они ни в коем случае не попадали в плен: нельзя давать вьетконговцам такое психологическое преимущество, чтобы они могли водить тебя, пленного, по деревням.
И все же он продолжал идти, злясь и недоумевая. Вьетконговец явно смеялся над ним, играл с ним в кошки-мышки. А так на войне себя не ведут, война - это не игра, и нечего устраивать глупые шутки с помощью винтовки. Он расстрелял еще одну обойму в сторону цифры один и пошел туда. Но там никого не оказалось. Вдруг он услышал выстрел, на этот раз слева, со стороны цифры десять. Он свернул немного влево, но стрелять не стал. Несколько минут спустя вьетконговец выстрелил сам, на этот раз со стороны цифры восемь, зайдя ему в тыл. Но в ту сторону Андерсон стрелять не мог, там были свои. Он долго выжидал, потом бросился к цифре шесть, готовясь стрелять в упор. Но ничего не произошло.
Потом пуля вдруг просвистела со стороны цифры одиннадцать. Андерсон резко повернулся, выстрелил и крикнул:
- А ну выходи, чертов ублюдок! Выходи же, ну! Я здесь!
Он подождал, но ничего не произошло. Ему показалось, что кто-то хихикнул. Он выкрикнул те же слова по-вьетнамски, но это выглядело глупо. Смех прекратился. И никто не стрелял. Он взглянул на часы: с тех пор как он перешел канал, прошло десять минут. Он выждал еще две минуты, но все было тихо. Вне себя от злости, он вернулся на берег канала и собрал своих солдат. Один из них сказал:
- Иногда вьетконговцы выкидывают такие штуки. Не принимайте близко к сердцу. Просто они развлекаются.
Андерсон угрюмо кивнул, и друг за другом они перешли канал. Андерсон был гораздо выше вьетнамцев, тем не менее голова его, так же как и их головы, едва возвышалась над водой. Это его удивило.
- Пиявкам в канале война идет на пользу,- сказал вьетнамец.- Сегодня они нажрутся до отвала.
Андерсон опять кивнул и вышел на тропу. Хорошо хоть то, что теперь они пойдут быстрее, догоняя отряд.
***
Андерсон догнал отряд довольно скоро. Солдаты столпились вокруг очень маленького вьетнамца. Он стоял с поднятыми руками, прислонившись спиной к дереву. Перед ним стоял Данг, выше его на голову, а позади Данга - Бопре, выше капитана на полторы головы. "Они становятся все меньше и меньше",- подумал Андерсон. Он услышал, как Данг сказал:
- Убийца! Мы поймали убийцу. Вьетконговская собака. Собака!
- Наверняка один из них,- сказал Бопре.- Весит не больше пятидесяти фунтов. Наши все весят больше.
Допрос вел Данг.
- Коммунист-вьетконговец. Готовил против нас засаду,- сообщил он Андерсону.
- Он подразумевает ту небольшую разведку, которую вы сейчас произвели,- шепнул Бопре.
- Продолжайте допрос взятого в плен коммуниста-вьетконговца,- приказал Данг Тыонгу.- Я окажу вам помощь в случае необходимости.
Допрашиваемый сказал, что его зовут Хун Ван Трунг.
- Конечно, его так и зовут,- сказал Бопре Андерсону.- У них у всех такие имена: Хун Ван Трунг, Трунг Ван Хун или Хун Ван Хун.
Пленный сказал, что ему пятьдесят восемь лет.
- Вероятно, коммунист солгал насчет своего возраста,- заявил Данг.- Эти люди по всякому поводу лгут.
Пленный сказал, что у него есть буйвол. Андерсон перевел эти слова Бопре. Тот сказал:
- Настоящий богач. Обычно к тому времени, когда они попадают к нам в руки, у них не остается и курицы. Пленный сказал, что он живет в деревне Апсуантхонг.
- Он коммунист? Спросите, коммунист он?- кричал Данг.
Пленный что-то бессвязно забормотал - казалось, он поет или читает молитвы.
- Скажите ему, что нас интересуют его отношения с Хо Ши Мином, а не с Буддой,- сказал Данг.
Капрал ударил пленного по лицу. Тот стал уверять, что он верен правительству и одно время даже служил агентом.
- Слишком костлявые у него ноги,- сказал Бопре Андерсону.- Не может он быть нашим.
Пленный сообщил далее, что ему, наоборот, грозит опасность от местных коммунистов и их главаря Тхуана Хан Тхуана ("Не может быть, чтобы вьетконговский главарь носил то же имя, что и наш человек!" - заметил Бопре). Они заподозрили его в сотрудничестве с правительством и увели прошлой ночью его жену. Назвав главного коммуниста по имени, пленный умолк, словно считая, что других подтверждений не нужно.
Данг потребовал у пленного удостоверение личности, а когда удостоверения у того не оказалось, ударил его по лицу. Пленный сказал, что документ у него отобрали коммунисты. Его опять ударили. А сколько у него детей? Он ответил, что у него было трое сыновей и еще дочери, но сколько, он точно не помнит. Один сын умер от болезни. Его спросили, от какой болезни. От желтой болезни. Все закивали головами: "Желтая болезнь! Ну еще бы - желтая болезнь", хотя позднее выяснилось, что они не знают, какая именно это болезнь.
- Желтая болезнь?- переспросил Бопре, когда ему перевели.- В этой проклятой стране все ею болеют. Разве от нее умирают?
Два оставшихся сына служат в правительственных войсках - один, кажется, погиб, а другой, кажется, жив.
- В каких частях?- устало спросил Тыонг.
Пленный ответил, что не знает, но уверен, что сыновья воевали против Вьетмина [Вьетмин - так называли французские колонизаторы вьетнамских патриотов].
- Не Вьетмина, а Вьетконга,- сказал Данг.- Объясните ему.
Капрал снова ударил пленного по лицу.
- Теперь расскажи, как все произошло,- потребовал Тыонг.- Только постарайся быть честным. Докажи, что сердце у тебя чистое.
Пленный кивнул и начал рассказывать. Он в этот день долго работал и рано лег спать. Начался сезон дождей, и многое предстояло сделать, тем более что в прошлом году была засуха.
- Спросите, что он ел на завтрак,- сказал Бопре Андерсону.- Спросите, спросите, так оно скорее пойдет.
Тыонг перебил пленного и велел ему говорить быстрее, если он хочет остаться в живых. Ну вот, значит, он лег спать рано, и тут его позвал Тхуан Ван Тхуан.
- Он твой сосед?- спросил Тыонг.
- Нет, он живет через три дома.
- Черт возьми,- заметил Бопре.- Пленный же сказал, что он сразу понял, какие ему грозят неприятности.
- Зачем он пошел?- спросил Данг.- Знал о приходе своих друзей-коммунистов? Знал, что идут эти собаки?
- Нет,- ответил пленный.- Просто Тхуан говорил громко и сердито...- Пленный запнулся, словно хотел сказать "как капитан", но удержался. Потом он сказал, что обычно-то Тхуан разговаривает тихим, просительным голосом, но он все равно не доверяет ему. Тхуан, например, говорил, что у него есть электрическая коробка - единственная в деревне,- с помощью которой он будто бы слушает специальные сообщения из Сайгона, Парижа и Ханоя, но он уверен, что это вовсе не настоящая электрическая коробка. Тхуан держался надменно и потребовал, чтобы все шли на собрание. Он потребовал, чтобы и его жена шла на собрание, и это его расстроило, потому что жена болела. Она кашляла и только-только заснула. Но Тхуан ничего не хотел слушать. Он заставил их пойти на площадь, там были зажжены фонари, и там стояло человек двенадцать посторонних - все мужчины. Он сразу понял, что это солдаты.
- У них было оружие? - спросил Тыонг.
- Оружия я не видел, но знал, что оно есть.
- Откуда он знал?- спросил Данг.- Потому что он один из них?
- Потому что я видел, как они себя ведут,- ответил пленный.- Те, у кого есть оружие, ведут себя не так, как те, у которых его нет.
Пленный, видимо, удивился, что они не понимают разницы, и спросил Тыонга:
- Вам никогда не приходилось разговаривать с человеком, когда у него было оружие, а у вас не было?
- Дельный вопрос,- заметил Бопре.- Сукин сын говорит правду.
Пленный замолчал, словно ожидая очередного удара, потом сказал, что эти люди говорили о политике и о том, что назавтра в деревню придут длинноносые (при этом он смущенно посмотрел на Андерсона и Бопре) и постараются всех перебить. Потом они угощали чаем. Сам он выпил две чашки. Он хотел сначала выпить только одну, но побоялся обидеть Вьетмин.
- Вьетконг,- поправил Данг, на этот раз не так сердито.
Некоторые же выпили по три чашки.
- Посмотрим, сколько чашек он выпьет у нас,- сказал Бопре, выслушав перевод Андерсона.
На следующий день ему велели идти из деревни на север, потому что американцы подходили с юга, востока и запада, но он не послушался и пошел на юг. Тыонг спросил, где его жена. Коммунисты взяли ее с собой как носилыдицу и заложницу. Тыонг продолжал расспрашивать его о противнике, а Бопре отвел Андерсона в сторону и велел связаться по радио со штабом и передать полученную информацию. Он не доверял вьетнамцам: если полагаться только на них, то сведения попадут в КП не раньше следующего дня.
- Он ведь сказал правду? - спросил Андерсон.
Бопре помолчал.
- Да, правду,- ответил он наконец.- И это самое скверное. Я бы предпочел, чтобы он, как и все до него, никогда не видел вьетконговцев и ничего не слыхал о войне.- Он прошелся взад и вперед.- Молот и наковальня. Мы с вами между молотом и наковальней.
У него было сухо во рту, и хотелось пить. Он немного нервничал. С самого начала он относился к этой операции иронически и окончательно перестал испытывать страх, едва выяснилось, что с вертолетами посылают не его, а Большого Уильяма. Но теперь страх вернулся. Он вдруг осознал, что уже не молод, осознал бессмысленность этой войны - бессмысленность не убийства, а бесконечных, изо дня в день повторяющихся походов и возвращений в Мито с гнетущим сознанием, что опять он ничего не сделал, ничего не увидел, ничего не достиг, ничего не изменил и только рисковал жизнью ради ничтожных результатов, гадая, не продали ли тебя уже, не зная, кому доверять. Во время второй мировой войны Бопре не испытывал такого недоверия к людям. Он воевал в пехотном полку, бок о бок с самыми разными людьми, среди них были солдаты хорошие и плохие, храбрые и трусливые, любившие войну и ненавидевшие ее, но, как бы там ни было, недоверия к ним он не испытывал. Тогда было проще, даже когда они воевали в Германии, где ненавидели всех,- во всяком случае, там, когда они вступали в деревню, их не обнимали и не целовали для того, чтобы заманить в засаду, обмануть или предать. Недоверие родилось в Корее, когда война вдруг перестала быть просто сражениями и смертью и превратилась в постоянную неизвестность: куда ты идешь, чья разведка это устроила, кто платит агенту и на кого еще он работает? Когда он наконец встречал этого человека, он начинал вглядываться ему в лицо, подчас ища слишком многого, и видел то, чего не было, и предполагал то, чего быть не могло не только в те дни, но, возможно, и никогда прежде. "Не ждите от наших корейских агентов голубых глаз, русых волос и дружеских улыбок,- сказали ему.- Ничего этого вы не увидите. Они не похожи на морских пехотинцев, а похожи на корейцев, потому что они и есть корейцы. И пусть вас не тревожит, кто они и как выглядят. Это уж наша забота. Ваше же дело - не держать в карманах мелочи, потому что в холодные зимние ночи она позвякивает слишком громко, полагаться на компас и на свой здравый смысл. Мы не требуем, чтобы вы испытывали к корейцам симпатию. В ваши обязанности это не входит".
Но по сравнению с Вьетнамом Корея казалась очень простой. Во Вьетнаме все начиналось с недоверия и все уже казалось сомнительным, даже то, что ты как будто знал твердо. Даже американцы представлялись Бопре не такими, как раньше, он и им перестал вполне доверять: чтобы уцелеть в этом новом мире и в этой новой армии, они должны были измениться. "Да" было уже не совсем "да", "нет" было уже не совсем "нет", а "может быть" стало вдвойне "может быть".
- Возможно, нас продали или продают,- сказал он Андерсону и неожиданно добавил с заботливостью, которая редко звучала в его голосе (и в этот день, и во все предыдущие):
- А вы поберегите себя, слышите?
***
То, что Тыонг узнал от пленного, несло на себе страшную печать истины, и это ему не понравилось. Эта операция не нравилась ему с самого начала - он никогда не разделял мнения штаба об этом районе. В штабе этот район называли синим (американцы, по его наблюдениям, питали к военным картам даже большее пристрастие, чем французы, и учили вьетнамцев делить районы на красные, белые и синие; они любили менять цвета, перекрашивать красное в белое и белое в синее, втыкать красные булавки в белые кружки и синие в красные), синий цвет должен был обозначать безопасность, но Тыонгу этот район не нравился. До этого он не часто здесь бывал и готов был принять мнение штаба относительно его надежности, но стоило ему тут оказаться, и он начинал чувствовать, что район этот не такой, каким кажется на первый взгляд, и куда враждебнее, чем утверждает начальство. Он подозревал, что этот район коммунистический, но партизаны тут воздерживаются от открытых действий и сохраняют видимость мирной обстановки, оберегая свои коммуникации. Тыонг помнил, что в этом районе Сайгону удалось завербовать очень мало солдат, причем процент дезертиров среди них оказался выше, чем можно было ожидать.
Тыонг шел рядом с пленным почти в конце колонны.
- По-моему, ты говорил нам правду,- сказал он. Пленный молчал, не поднимая головы.- Возможно, к концу дня тебя отпустят на свободу.
- Возможно, к концу дня мы все будем лежать убитые,- с горечью сказал пленный.
- Хочешь, я дам тебе воды из моей фляги?- спросил Тыонг.
От воды пленный отказался, но спросил, не окажет ли ему Тыонг одну услугу, раз поверил его показаниям. Тыонг ответил, что постарается, если только это можно будет сделать.
- Свяжите мне руки,- попросил пленный.- Ведь если они увидят, что я иду с вами...
- Понимаю,- сказал Тыонг и приказал связать ему руки. Он подумал: "Пусть бы американцы спросили у этого крестьянина, синий, по его мнению, этот район или красный. Может быть, они втолковали бы ему, что здесь безопасно ходить несвязанным, потому что это синий район".
- Вы не из этих мест, верно?- спросил пленный.
- Верно,- ответил Тыонг.- Я с Севера.
- Я вижу, но вы не такой, как другие северяне. Вы добрее.
- Только потому, что ты честнее других южан.
Этот человек внушал доверие, хотя вообще Тыонг южанам не доверял. Он считал их нечестными, ленивыми, слишком уж готовыми говорить именно то, что хотел бы услышать от них собеседник; работу они предпочитали предоставлять женщинам ("И словно гордились этим,- думал он,- ведь лучшим мужчиной считается у них тот, чья жена работает больше всех"). Северян он считал более честными, хотя, приехав на Юг, они, как и он сам, быстро становились не особенно честными. Но что поделаешь, чтобы выжить, приходится приспосабливаться.
Тыонгу шел тридцать второй год, хотя иностранцам он, подобно большинству вьетнамцев, казался моложе своих лет. У него была стройная фигура и открытое, почти наивное лицо. Он прослужил в правительственных войсках восемь лет (сначала кандидатом в офицеры, потом лейтенантом) - срок, достаточный для того, чтобы перестать быть наивным. Тот факт, что он не продвинулся по службе, отнюдь не свидетельствовал об отсутствии у него дарований. Те немногие его командиры, которые брали на себя труд полистать его личное дело (где, кстати сказать, больше документов отсутствовало, чем имелось в наличии), удивлялись его способностям, тому, сколько он, оказывается, сделал. Но, удивившись, они не испытывали никакого желания представить его к повышению. Наоборот, чем старше он становился и чем больше накапливалось в его деле хвалебных отзывов (в том числе и отзывов американцев, что было опасно), тем хуже было для него: он превратился в способного человека, не сделавшего карьеру. Значит, должна быть какая-то причина, какие-то секретные сведения о его политической неблагонадежности. В частности, начальство весьма смущали взгляды отца Тыонга на религию: живя на Севере и будучи связан с иностранцами, он отказывался принять их веру - он работал у иностранцев, брал от них жалованье, выполняя их распоряжения, но их веру принять не захотел. В то время такое поведение казалось необычным. Многие вьетнамцы одевались, как французы, ели, как французы, и разговаривали, как французы. Отец Тыонга называл таких людей "вьетнамскими усачами", потому что они, следуя французской моде, отращивали усы. Однажды Тыонг осторожно спросил отца, почему он не принял религию французов, и тот ответил, что берет их деньги за свой труд, а не за свою душу. Тем не менее он был тесно связан с иностранцами и, когда началась война с Францией, продолжал работать у них. Тут сыграли роль не только случайные обстоятельства, но и сознательное решение: он не особенно любил французов, однако считал, что раз все их покидают, то ему не пристало делать то же самое,- одной из причин его неприязни к французам было их презрение к вьетнамцам и откровенное убеждение, что все вьетнамцы трусы, и уйти в такой момент, по его мнению, значило бы подтвердить самое худшее, что говорили французы о его народе. Когда же иностранцы из-за своей глупости проиграли войну, тем самым доказав, что вьетнамцы далеко не трусы, отцу Тыонга уже нечего было доказывать - семья решила перебраться на Юг и отправилась туда небольшими группами, чтобы не попасть в руки Вьетмина.
Путь на Юг был труден с самого начала, и бабушка Тыонга, которую ему поручили сопровождать, едва не умерла от истощения. (Впоследствии Тыонг помнил только, как он искал для нее воду и как отдавал ей всю свою воду, и еще он помнил страшную жажду, которая томила его изо дня в день. Поэтому мысль о разделе страны всегда ассоциировалась у него с ощущением жажды). Когда они наконец оказались на Юге, выяснилось, что буддистов туда бежало немного и их всех поместили в лагерь для беженцев-католиков. В этом лагере семья Тыонга разделяла с католиками все трудности их положения нежеланных иммигрантов, но не разделяла с ними ни их веры, ни покровительства, которым они пользовались.
Благодаря связям отца Тыонгу удалось поступить в военное училище, после того как он полтора года дожидался своей очереди. В училище Тыонг быстро понял, что он северянин на Юге и буддист среди католиков, а потому всегда будет кому-то внушать недоверие и антипатию. Южане не доверяли ему потому, что он северянин, а католики - потому, что он буддист. В стране, лишенной идеалов и погрязшей в цинизме и погоне за личным благом, он не мог не внушать подозрений и, следовательно, оставался лейтенантом. Ему не доверяли, и он в свою очередь стал недоверчив и скептичен. С таким же фатализмом он принял все последствия того, что был сыном своего отца,- главным образом потому, что другого выбора у него не было, но зато в известной степени это давало ему возможность чувствовать себя независимым. Он мирился с их порядками, но пытался остаться самим собой. Он завидовал коммунистам - их вере в себя, их идеалам, их незыблемой уверенности в будущем; завидовал католикам - их вере, их солидарности; завидовал американцам - их энергии и идеализму; завидовал отцу - его душевной мягкости и неистребимой наивности (время от времени отец смущенно и растерянно его спрашивал, действительно ли ему необходимо быть военным, нельзя ли ему найти другое занятие. Конечно, отец знал, что военным хорошо платят...). Тыонг не верил в дело, которому служил, и подозревал, что война, вероятно, будет проиграна.
Нет, он не хотел переходить на сторону противника (хотя это было очень просто, стоило лишь во время операции отойти немного от своих) и не считал, что противник более прав: коммунисты ведь убили его дядю, точно так же как французы убили его двоюродного брата, по глупости стерев с лица земли деревню (до этого лояльную по отношению к ним), чего и добивался Вьетмин. Вьетминовцы были такие же, как французы, и отличались от последних лишь тем, что не терпели коррупции. Впрочем, Тыонг полагал, что десять лет у власти должны были бы и у Вьетмина развить вкус к коррупции (в зависимости от степени успеха, которого добился бы их режим, думал он: ведь чтобы стать продажным, режим должен добиться определенного успеха; если же успех не приходит, то режим остается неподкупным). От перехода на сторону противника Тыонга удерживала не мысль о том, что все эти годы он воевал против них и убил много их солдат (в отличие от его начальства они вели учет образцово и сразу узнали бы, кто он и кого убил); не боялся он и лишиться относительного комфорта Мито - содовой воды и охлажденного пива. Просто он знал, что слишком скептичен и не способен разделить энтузиазм коммунистов и их преданность своему делу. "Обрести веру во Вьетнаме,- думал он,- можно только в раннем детстве, а сохранить ее способен только тот, кому очень повезет".
А поэтому он старался как мог лучше выполнять свои лейтенантские обязанности. Андерсону, молодому американцу, он сказал, что ему двадцать пять лет, потому что не хотел ставить его в неловкое положение. Андерсон очень удивился: он думал, что Тыонг гораздо моложе. В какой-то мере Тыонг даже гордился тем, что он делал, но еще больше - тем, чего не делал: не выслуживался, не лебезил перед своим непосредственным начальником и не требовал длительного артиллерийского обстрела, перед тем как начать наступление на какую-нибудь деревню. Однако решающим мотивом его жизни был фатализм. В свое время его отец делал эти роковые ошибки, вдруг в самый неподходящий момент цепляясь за ложную принципиальность (ложную потому, думал Тыонг, что и его отец, и он сам на протяжении жизни шли на многие другие унизительные компромиссы и примирялись со многими другими обманами). А теперь и он упрямо и безрассудно уходил все дальше по той же безлюдной дороге. Он мог, например, сменить веру - другие же сменили. Ему тоже предлагали перейти в католичество. В академии с ним училось немало новоиспеченных католиков, и некоторые из них были теперь капитанами, а один - даже майором. Но для него сменить веру значило бы сдаться - он восхищался католиками на Севере, где они составляли меньшинство, но, перебравшись на Юг, они стали другими. То, что прежде казалось ему спокойным мужеством, здесь превратилось в надменность, и, конечно, надменнее всех были новообращенные.
И он продолжал идти своей дорогой - не дезертировал, потому что это навлекло бы неприятности на его родителей (а также и потому, что для него все равно ничего не изменилось бы), а в результате стал очень старым лейтенантом. В настоящее время особой наградой за его фатализм являлся капитан Данг. Капитан был на год моложе Тыонга, в армии служил меньше и скоро, по его собственным словам, должен был стать майором. У него были влиятельные родственники в Сайгоне, и он никогда об этом не забывал: постоянно уезжал в Сайгон и часто рассказывал о банкетах и званых вечерах, на которых присутствовал. Он часто хвалил Тыонга (хвалил в глаза, давая понять, что делал то же самое и в присутствии власть имущих) и говорил, что хлопочет о его повышении, хотя Тыонг был совершенно уверен, что если его и повысят когда-нибудь в чине, то лишь вопреки Дангу. Данг не помнил фамилии ни одного из своих солдат чином ниже капрала и сообщал заведомо неверные сведения о личном составе, систематически завышая фактические данные и скрывая цифры потерь (это было выгодно ему по двум причинам: так он избегал выговоров за потери в живой силе и получал за убитых их жалованье. Таким образом, если, по его данным, роте не хватало десяти человек, то фактически не хватало двадцати - двадцати пяти и соответственно увеличивалась нагрузка на остальных). Тыонг частично поправил положение тем, что взял у друга из соседней роты лишний ручной пулемет - они сначала потеряли этот пулемет, но потом, после длительного боя с вьетконговским батальоном, отбили его. Поскольку официально пулемет считался потерянным, то после возвращения он не попал в инвентарный список, а друг был в большом долгу перед Тыонгом, который в свое время одолжил им троих солдат перед ответственной инспекцией. Тыонг старался, насколько это было возможно, не замечать проделок Данга. Данг вполне его устраивал, так как полностью отвечал его представлению об офицерах и о порядках, царивших в армии, а это помогало ему легче переносить то, что его никак не повышали в чине. Обида была бы острее, если бы Данг оказался настоящим солдатом. Но вот уже два с половиной года он презирал Данга после одного случая. Это произошло незадолго до появления в стране американских вертолетов, обеспечивавших теперь молниеносную доставку подкреплений,- тогда еще приходилось преодолевать чувство жуткой оторванности от всего мира: тебя ранило, но ты остался один драться и умирать. В тот день их отряд попал в засаду и выдержал короткий, однако жестокий бой. Тыонг, как и все остальные, в первые секунды был парализован страхом, он не сомневался, что живым отсюда не уйдет, и вот тогда-то он увидел то, чего не мог ни простить, ни забыть (это, как ему казалось тогда, было последним, что он увидел перед смертью): Данг срывал со своих погон звездочки. "Если ты хочешь носить звездочки в фешенебельных сайгонских салонах,- думал Тыонг,- то носи их и в лесах Уминь".
В одиннадцать тридцать отряд в беспорядке шел по берегу канала - настала одна из тех спокойных минут, когда прежние страхи забылись и, одурманенные жарой и однообразием, солдаты словно впали в забытье. И тут их обстреляли. Слева, с противоположного берега канала, раздались один за другим три выстрела - стреляли, по-видимому, с небольшого расстояния. Пули шлепнулись недалеко от центра колонны, рядом с тем местом, где шел Андерсон. Он повернулся в ту сторону, откуда стреляли, и быстро отдал приказ по-вьетнамски: троим велел идти с ним, а четвертого отправил в хвост колонны сообщить Тыонгу о своем решении и предупредить, чтобы тот не посылал никаких подкреплений, если не завяжется серьезный бой, а в таком случае он услышит стрельбу из автоматического оружия, так как его, Андерсона, группа автоматов с собой не берет.
Андерсон чувствовал, что это не засада. Засада выдает себя залпом из автоматов: несколько выстрелов из обыкновенной винтовки - это только бессмысленное предупреждение противника, обесценивающее всю операцию. Эти же три выстрела подряд, по мнению Андерсона, означали, что стрелял один человек, который хотел создать впечатление, что он не один. Впрочем, черт побери, думал он, разве тут угадаешь? Стараешься рассуждать, как они, и попадаешь в беду: ждешь хитрости, а они выбирают простейший маневр; ждешь простейшего маневра, а они выбирают хитрость.
Андерсон подошел со своей группой к берегу канала, и еще две пули шлепнулись рядом. Он поставил одного вьетнамца выше по каналу, другого - ниже, а третьему приказал стоять на месте. Они должны были прикрывать его, пока он будет переходить канал, и ждать, пока он не доберется до противоположного берега. Он не хотел, чтобы они все четверо увязли в жидкой грязи, если обнаружится, что у противника все-таки есть автоматы. Солдаты кивнули. Он спросил по-вьетнамски, понимают ли они его, и велел одному из них повторить приказ. К его удивлению, вьетнамец повторил все правильно.
- Лейтенант поплывет?- спросил вьетнамец.
- Лейтенант думает, что поплывет,- ответил Андерсон.- А вы плавать умеете?
Солдат ответил:
- Там видно будет.
Андерсон подождал, пока снайпер даст третью очередь, и, когда пули упали еще ближе, быстро шагнул в воду и сразу погрузился выше пояса. Он осторожно двинулся вперед, вглядываясь в заросли и стараясь угадать, где прячется снайпер. Он все еще не мог сказать точно, откуда стреляли, хотя и установил примерное направление. Он был один в канале и шел медленно, с трудом преодолевая сопротивление воды и вытаскивая ноги из вязкой тины. Он знал, что представляет собой удобную мишень, и очень боялся, его движения были замедленными, как во сне. Он вспоминал, что им говорили на последнем инструктаже: "Вьетконговский пехотинец отличается упорством и скорее умрет, чем оставит позицию; он фанатически предан своей идеологии, потому что всю жизнь, с младенческого возраста, его подвергают идеологической обработке. Но он плохо стреляет. Да, господа, стрелок он неважный. И снайперы у них обычно никуда не годятся, потому что стреляют без очков. У противника нет очков, потому что очки коммунистам не по карману. Наши врачи проверяли их и установили, что из-за плохого питания, из-за почти полного отсутствия в их рационе мяса и белков зрение у них обычно слабое. А очков им не дают - вот почему они стреляют хуже нас. Они храбры, господа, но близоруки. Помните об этом".
Андерсон помнил об этом и надеялся, что это правда.
На противоположном берегу он видел только кусты и деревья. Помни, сказал он себе, что враг может сидеть на дереве - как опять-таки предупреждали на инструктаже: "Вьетконговцы часто занимают позиции на верхушках деревьев, как это делали японцы, а потому ищите их там. Запомните, что я вам говорил,- это может спасти вам жизнь. Вот вы идете по джунглям, потные и грязные. Вдруг раздается выстрел, и, поскольку ваши толстые лапы ступают на землю, вы воображаете, будто и снайпер стоит на земле. Но вы ошибаетесь: он сидит в третьем ярусе, снимает мерку с вашей головы, считает ваших солдат и готовится попортить вам головной убор. Вьетконговцы любят джунгли, а что такое джунгли? Деревья. Множество деревьев. Помните об этом, господа, и ищите их на деревьях".
Андерсон ушел с этого инструктажа, чувствуя, что все вьетконговцы сидят на деревьях; и даже теперь он смотрел больше на деревья, чем на землю.
Вьетнамцы у него за спиной открыли огонь, но снайпер молчал. Андерсон добрался до середины канала, где глубина была наибольшей - над водой оставалась только его голова, часть шеи и вытянутые руки с винтовкой. Наконец он добрался до противоположного берега. Он махнул вьетнамцам, чтобы они перестали стрелять, и, не выпуская винтовки (он боялся положить ее на берег, опасаясь, как бы кто-нибудь не выскочил из-за кустов и не схватил ее), ползком вскарабкался по откосу, но снайпер по-прежнему молчал. Охваченный страхом, Андерсон проскочил первый ряд кустов, так как не знал, что там может оказаться (Ролстон однажды вот так же прошел сквозь кусты и увидел прямо перед собой вьетконговца; растерявшись от неожиданности, они молча смотрели друг на друга, а потом вьетконговец вдруг повернулся и побежал - правда, Бопре потом утверждал, что побежал-то Ролстон, а вьетконговец сплоховал, дал ему уйти и, испугавшись, наврал своему начальству, так что теперь Ролстон во вьетконговских списках числится убитым в бою и потому может ничего не опасаться - убивать его вторично вьетконговцы не посмеют).
Андерсон углубился в заросли и, выбрав удобную позицию, расстрелял обойму: несколько пуль он послал влево, несколько прямо и несколько вправо от себя, а последнюю - в древесную крону, как дань уважения своим инструкторам из форта Бэннинга. Все было по-прежнему тихо, он перезарядил винтовку и пошел дальше. Впереди просвистели две пули, на этот раз с более дальнего расстояния (или, может, ему так показалось). Значит, враг не ушел. Андерсон снова двинулся вперед: что-то подсказывало ему, что снайпер должен находиться чуть правее. Он был один, солдаты остались на противоположном берегу канала. Здесь пользы от них не было никакой, потому что они пошли бы прямо за ним и подняли бы шум, не говоря уж о том, что он мог бы получить пулю в спину - обычная опасность при продвижении гуськом. И тем не менее он чувствовал себя страшно одиноким - ведь он находился в их джунглях, они, возможно, видят его, наблюдают за ним, замечают то, чего он заметить не может. Да и кто знает, один там снайпер или их несколько? Он прошел еще немного. Двигался он медленно - и потому, что боялся, и потому, что кустарник был очень густой. Если бы он шел по часовому циферблату и в том месте на берегу канала, где он углубился в джунгли, стояла бы цифра шесть, то теперь он приближался бы к цифре один. Он шел, стреляя непрерывно. Время от времени он внезапно начинал стрелять в другую сторону. Вдруг где-то совсем рядом просвистела пуля. Стрелявший был теперь ближе, только уже не справа, а слева, примерно на цифре одиннадцать. Возбужденный, испуганный, Андерсон быстро пошел туда. Ветки царапали ему лицо и руки, но прикрыть лицо он не мог, так как руки были заняты винтовкой. Он расстрелял еще одну обойму: два выстрела подряд, три выстрела подряд и три через равные интервалы - настоящая музыкальная гамма.
Ответных выстрелов не раздалось, и он торопливо зашагал по джунглям, смыкавшимся и вокруг него, и вокруг его противника. Потом последовал ответ - двойной посвист, два выстрела, только у вьетконговца он прозвучал глуше, чем у него,- но тут Андерсон рассердился, потому что на этот раз звук донесся справа, от цифры один, где он только что был. Он тихо выругался и бросился вправо, сознавая, что делает глупость, что нарушает все правила, которым его обучали, что лезет в ловушку и дает им возможность взять в плен американского офицера. А в Бэннинге их специально предупреждали, чтобы они ни в коем случае не попадали в плен: нельзя давать вьетконговцам такое психологическое преимущество, чтобы они могли водить тебя, пленного, по деревням.
И все же он продолжал идти, злясь и недоумевая. Вьетконговец явно смеялся над ним, играл с ним в кошки-мышки. А так на войне себя не ведут, война - это не игра, и нечего устраивать глупые шутки с помощью винтовки. Он расстрелял еще одну обойму в сторону цифры один и пошел туда. Но там никого не оказалось. Вдруг он услышал выстрел, на этот раз слева, со стороны цифры десять. Он свернул немного влево, но стрелять не стал. Несколько минут спустя вьетконговец выстрелил сам, на этот раз со стороны цифры восемь, зайдя ему в тыл. Но в ту сторону Андерсон стрелять не мог, там были свои. Он долго выжидал, потом бросился к цифре шесть, готовясь стрелять в упор. Но ничего не произошло.
Потом пуля вдруг просвистела со стороны цифры одиннадцать. Андерсон резко повернулся, выстрелил и крикнул:
- А ну выходи, чертов ублюдок! Выходи же, ну! Я здесь!
Он подождал, но ничего не произошло. Ему показалось, что кто-то хихикнул. Он выкрикнул те же слова по-вьетнамски, но это выглядело глупо. Смех прекратился. И никто не стрелял. Он взглянул на часы: с тех пор как он перешел канал, прошло десять минут. Он выждал еще две минуты, но все было тихо. Вне себя от злости, он вернулся на берег канала и собрал своих солдат. Один из них сказал:
- Иногда вьетконговцы выкидывают такие штуки. Не принимайте близко к сердцу. Просто они развлекаются.
Андерсон угрюмо кивнул, и друг за другом они перешли канал. Андерсон был гораздо выше вьетнамцев, тем не менее голова его, так же как и их головы, едва возвышалась над водой. Это его удивило.
- Пиявкам в канале война идет на пользу,- сказал вьетнамец.- Сегодня они нажрутся до отвала.
Андерсон опять кивнул и вышел на тропу. Хорошо хоть то, что теперь они пойдут быстрее, догоняя отряд.
***
Андерсон догнал отряд довольно скоро. Солдаты столпились вокруг очень маленького вьетнамца. Он стоял с поднятыми руками, прислонившись спиной к дереву. Перед ним стоял Данг, выше его на голову, а позади Данга - Бопре, выше капитана на полторы головы. "Они становятся все меньше и меньше",- подумал Андерсон. Он услышал, как Данг сказал:
- Убийца! Мы поймали убийцу. Вьетконговская собака. Собака!
- Наверняка один из них,- сказал Бопре.- Весит не больше пятидесяти фунтов. Наши все весят больше.
Допрос вел Данг.
- Коммунист-вьетконговец. Готовил против нас засаду,- сообщил он Андерсону.
- Он подразумевает ту небольшую разведку, которую вы сейчас произвели,- шепнул Бопре.
- Продолжайте допрос взятого в плен коммуниста-вьетконговца,- приказал Данг Тыонгу.- Я окажу вам помощь в случае необходимости.
Допрашиваемый сказал, что его зовут Хун Ван Трунг.
- Конечно, его так и зовут,- сказал Бопре Андерсону.- У них у всех такие имена: Хун Ван Трунг, Трунг Ван Хун или Хун Ван Хун.
Пленный сказал, что ему пятьдесят восемь лет.
- Вероятно, коммунист солгал насчет своего возраста,- заявил Данг.- Эти люди по всякому поводу лгут.
Пленный сказал, что у него есть буйвол. Андерсон перевел эти слова Бопре. Тот сказал:
- Настоящий богач. Обычно к тому времени, когда они попадают к нам в руки, у них не остается и курицы. Пленный сказал, что он живет в деревне Апсуантхонг.
- Он коммунист? Спросите, коммунист он?- кричал Данг.
Пленный что-то бессвязно забормотал - казалось, он поет или читает молитвы.
- Скажите ему, что нас интересуют его отношения с Хо Ши Мином, а не с Буддой,- сказал Данг.
Капрал ударил пленного по лицу. Тот стал уверять, что он верен правительству и одно время даже служил агентом.
- Слишком костлявые у него ноги,- сказал Бопре Андерсону.- Не может он быть нашим.
Пленный сообщил далее, что ему, наоборот, грозит опасность от местных коммунистов и их главаря Тхуана Хан Тхуана ("Не может быть, чтобы вьетконговский главарь носил то же имя, что и наш человек!" - заметил Бопре). Они заподозрили его в сотрудничестве с правительством и увели прошлой ночью его жену. Назвав главного коммуниста по имени, пленный умолк, словно считая, что других подтверждений не нужно.
Данг потребовал у пленного удостоверение личности, а когда удостоверения у того не оказалось, ударил его по лицу. Пленный сказал, что документ у него отобрали коммунисты. Его опять ударили. А сколько у него детей? Он ответил, что у него было трое сыновей и еще дочери, но сколько, он точно не помнит. Один сын умер от болезни. Его спросили, от какой болезни. От желтой болезни. Все закивали головами: "Желтая болезнь! Ну еще бы - желтая болезнь", хотя позднее выяснилось, что они не знают, какая именно это болезнь.
- Желтая болезнь?- переспросил Бопре, когда ему перевели.- В этой проклятой стране все ею болеют. Разве от нее умирают?
Два оставшихся сына служат в правительственных войсках - один, кажется, погиб, а другой, кажется, жив.
- В каких частях?- устало спросил Тыонг.
Пленный ответил, что не знает, но уверен, что сыновья воевали против Вьетмина [Вьетмин - так называли французские колонизаторы вьетнамских патриотов].
- Не Вьетмина, а Вьетконга,- сказал Данг.- Объясните ему.
Капрал снова ударил пленного по лицу.
- Теперь расскажи, как все произошло,- потребовал Тыонг.- Только постарайся быть честным. Докажи, что сердце у тебя чистое.
Пленный кивнул и начал рассказывать. Он в этот день долго работал и рано лег спать. Начался сезон дождей, и многое предстояло сделать, тем более что в прошлом году была засуха.
- Спросите, что он ел на завтрак,- сказал Бопре Андерсону.- Спросите, спросите, так оно скорее пойдет.
Тыонг перебил пленного и велел ему говорить быстрее, если он хочет остаться в живых. Ну вот, значит, он лег спать рано, и тут его позвал Тхуан Ван Тхуан.
- Он твой сосед?- спросил Тыонг.
- Нет, он живет через три дома.
- Черт возьми,- заметил Бопре.- Пленный же сказал, что он сразу понял, какие ему грозят неприятности.
- Зачем он пошел?- спросил Данг.- Знал о приходе своих друзей-коммунистов? Знал, что идут эти собаки?
- Нет,- ответил пленный.- Просто Тхуан говорил громко и сердито...- Пленный запнулся, словно хотел сказать "как капитан", но удержался. Потом он сказал, что обычно-то Тхуан разговаривает тихим, просительным голосом, но он все равно не доверяет ему. Тхуан, например, говорил, что у него есть электрическая коробка - единственная в деревне,- с помощью которой он будто бы слушает специальные сообщения из Сайгона, Парижа и Ханоя, но он уверен, что это вовсе не настоящая электрическая коробка. Тхуан держался надменно и потребовал, чтобы все шли на собрание. Он потребовал, чтобы и его жена шла на собрание, и это его расстроило, потому что жена болела. Она кашляла и только-только заснула. Но Тхуан ничего не хотел слушать. Он заставил их пойти на площадь, там были зажжены фонари, и там стояло человек двенадцать посторонних - все мужчины. Он сразу понял, что это солдаты.
- У них было оружие? - спросил Тыонг.
- Оружия я не видел, но знал, что оно есть.
- Откуда он знал?- спросил Данг.- Потому что он один из них?
- Потому что я видел, как они себя ведут,- ответил пленный.- Те, у кого есть оружие, ведут себя не так, как те, у которых его нет.
Пленный, видимо, удивился, что они не понимают разницы, и спросил Тыонга:
- Вам никогда не приходилось разговаривать с человеком, когда у него было оружие, а у вас не было?
- Дельный вопрос,- заметил Бопре.- Сукин сын говорит правду.
Пленный замолчал, словно ожидая очередного удара, потом сказал, что эти люди говорили о политике и о том, что назавтра в деревню придут длинноносые (при этом он смущенно посмотрел на Андерсона и Бопре) и постараются всех перебить. Потом они угощали чаем. Сам он выпил две чашки. Он хотел сначала выпить только одну, но побоялся обидеть Вьетмин.
- Вьетконг,- поправил Данг, на этот раз не так сердито.
Некоторые же выпили по три чашки.
- Посмотрим, сколько чашек он выпьет у нас,- сказал Бопре, выслушав перевод Андерсона.
На следующий день ему велели идти из деревни на север, потому что американцы подходили с юга, востока и запада, но он не послушался и пошел на юг. Тыонг спросил, где его жена. Коммунисты взяли ее с собой как носилыдицу и заложницу. Тыонг продолжал расспрашивать его о противнике, а Бопре отвел Андерсона в сторону и велел связаться по радио со штабом и передать полученную информацию. Он не доверял вьетнамцам: если полагаться только на них, то сведения попадут в КП не раньше следующего дня.
- Он ведь сказал правду? - спросил Андерсон.
Бопре помолчал.
- Да, правду,- ответил он наконец.- И это самое скверное. Я бы предпочел, чтобы он, как и все до него, никогда не видел вьетконговцев и ничего не слыхал о войне.- Он прошелся взад и вперед.- Молот и наковальня. Мы с вами между молотом и наковальней.
У него было сухо во рту, и хотелось пить. Он немного нервничал. С самого начала он относился к этой операции иронически и окончательно перестал испытывать страх, едва выяснилось, что с вертолетами посылают не его, а Большого Уильяма. Но теперь страх вернулся. Он вдруг осознал, что уже не молод, осознал бессмысленность этой войны - бессмысленность не убийства, а бесконечных, изо дня в день повторяющихся походов и возвращений в Мито с гнетущим сознанием, что опять он ничего не сделал, ничего не увидел, ничего не достиг, ничего не изменил и только рисковал жизнью ради ничтожных результатов, гадая, не продали ли тебя уже, не зная, кому доверять. Во время второй мировой войны Бопре не испытывал такого недоверия к людям. Он воевал в пехотном полку, бок о бок с самыми разными людьми, среди них были солдаты хорошие и плохие, храбрые и трусливые, любившие войну и ненавидевшие ее, но, как бы там ни было, недоверия к ним он не испытывал. Тогда было проще, даже когда они воевали в Германии, где ненавидели всех,- во всяком случае, там, когда они вступали в деревню, их не обнимали и не целовали для того, чтобы заманить в засаду, обмануть или предать. Недоверие родилось в Корее, когда война вдруг перестала быть просто сражениями и смертью и превратилась в постоянную неизвестность: куда ты идешь, чья разведка это устроила, кто платит агенту и на кого еще он работает? Когда он наконец встречал этого человека, он начинал вглядываться ему в лицо, подчас ища слишком многого, и видел то, чего не было, и предполагал то, чего быть не могло не только в те дни, но, возможно, и никогда прежде. "Не ждите от наших корейских агентов голубых глаз, русых волос и дружеских улыбок,- сказали ему.- Ничего этого вы не увидите. Они не похожи на морских пехотинцев, а похожи на корейцев, потому что они и есть корейцы. И пусть вас не тревожит, кто они и как выглядят. Это уж наша забота. Ваше же дело - не держать в карманах мелочи, потому что в холодные зимние ночи она позвякивает слишком громко, полагаться на компас и на свой здравый смысл. Мы не требуем, чтобы вы испытывали к корейцам симпатию. В ваши обязанности это не входит".
Но по сравнению с Вьетнамом Корея казалась очень простой. Во Вьетнаме все начиналось с недоверия и все уже казалось сомнительным, даже то, что ты как будто знал твердо. Даже американцы представлялись Бопре не такими, как раньше, он и им перестал вполне доверять: чтобы уцелеть в этом новом мире и в этой новой армии, они должны были измениться. "Да" было уже не совсем "да", "нет" было уже не совсем "нет", а "может быть" стало вдвойне "может быть".
- Возможно, нас продали или продают,- сказал он Андерсону и неожиданно добавил с заботливостью, которая редко звучала в его голосе (и в этот день, и во все предыдущие):
- А вы поберегите себя, слышите?
***
То, что Тыонг узнал от пленного, несло на себе страшную печать истины, и это ему не понравилось. Эта операция не нравилась ему с самого начала - он никогда не разделял мнения штаба об этом районе. В штабе этот район называли синим (американцы, по его наблюдениям, питали к военным картам даже большее пристрастие, чем французы, и учили вьетнамцев делить районы на красные, белые и синие; они любили менять цвета, перекрашивать красное в белое и белое в синее, втыкать красные булавки в белые кружки и синие в красные), синий цвет должен был обозначать безопасность, но Тыонгу этот район не нравился. До этого он не часто здесь бывал и готов был принять мнение штаба относительно его надежности, но стоило ему тут оказаться, и он начинал чувствовать, что район этот не такой, каким кажется на первый взгляд, и куда враждебнее, чем утверждает начальство. Он подозревал, что этот район коммунистический, но партизаны тут воздерживаются от открытых действий и сохраняют видимость мирной обстановки, оберегая свои коммуникации. Тыонг помнил, что в этом районе Сайгону удалось завербовать очень мало солдат, причем процент дезертиров среди них оказался выше, чем можно было ожидать.
Тыонг шел рядом с пленным почти в конце колонны.
- По-моему, ты говорил нам правду,- сказал он. Пленный молчал, не поднимая головы.- Возможно, к концу дня тебя отпустят на свободу.
- Возможно, к концу дня мы все будем лежать убитые,- с горечью сказал пленный.
- Хочешь, я дам тебе воды из моей фляги?- спросил Тыонг.
От воды пленный отказался, но спросил, не окажет ли ему Тыонг одну услугу, раз поверил его показаниям. Тыонг ответил, что постарается, если только это можно будет сделать.
- Свяжите мне руки,- попросил пленный.- Ведь если они увидят, что я иду с вами...
- Понимаю,- сказал Тыонг и приказал связать ему руки. Он подумал: "Пусть бы американцы спросили у этого крестьянина, синий, по его мнению, этот район или красный. Может быть, они втолковали бы ему, что здесь безопасно ходить несвязанным, потому что это синий район".
- Вы не из этих мест, верно?- спросил пленный.
- Верно,- ответил Тыонг.- Я с Севера.
- Я вижу, но вы не такой, как другие северяне. Вы добрее.
- Только потому, что ты честнее других южан.
Этот человек внушал доверие, хотя вообще Тыонг южанам не доверял. Он считал их нечестными, ленивыми, слишком уж готовыми говорить именно то, что хотел бы услышать от них собеседник; работу они предпочитали предоставлять женщинам ("И словно гордились этим,- думал он,- ведь лучшим мужчиной считается у них тот, чья жена работает больше всех"). Северян он считал более честными, хотя, приехав на Юг, они, как и он сам, быстро становились не особенно честными. Но что поделаешь, чтобы выжить, приходится приспосабливаться.
Тыонгу шел тридцать второй год, хотя иностранцам он, подобно большинству вьетнамцев, казался моложе своих лет. У него была стройная фигура и открытое, почти наивное лицо. Он прослужил в правительственных войсках восемь лет (сначала кандидатом в офицеры, потом лейтенантом) - срок, достаточный для того, чтобы перестать быть наивным. Тот факт, что он не продвинулся по службе, отнюдь не свидетельствовал об отсутствии у него дарований. Те немногие его командиры, которые брали на себя труд полистать его личное дело (где, кстати сказать, больше документов отсутствовало, чем имелось в наличии), удивлялись его способностям, тому, сколько он, оказывается, сделал. Но, удивившись, они не испытывали никакого желания представить его к повышению. Наоборот, чем старше он становился и чем больше накапливалось в его деле хвалебных отзывов (в том числе и отзывов американцев, что было опасно), тем хуже было для него: он превратился в способного человека, не сделавшего карьеру. Значит, должна быть какая-то причина, какие-то секретные сведения о его политической неблагонадежности. В частности, начальство весьма смущали взгляды отца Тыонга на религию: живя на Севере и будучи связан с иностранцами, он отказывался принять их веру - он работал у иностранцев, брал от них жалованье, выполняя их распоряжения, но их веру принять не захотел. В то время такое поведение казалось необычным. Многие вьетнамцы одевались, как французы, ели, как французы, и разговаривали, как французы. Отец Тыонга называл таких людей "вьетнамскими усачами", потому что они, следуя французской моде, отращивали усы. Однажды Тыонг осторожно спросил отца, почему он не принял религию французов, и тот ответил, что берет их деньги за свой труд, а не за свою душу. Тем не менее он был тесно связан с иностранцами и, когда началась война с Францией, продолжал работать у них. Тут сыграли роль не только случайные обстоятельства, но и сознательное решение: он не особенно любил французов, однако считал, что раз все их покидают, то ему не пристало делать то же самое,- одной из причин его неприязни к французам было их презрение к вьетнамцам и откровенное убеждение, что все вьетнамцы трусы, и уйти в такой момент, по его мнению, значило бы подтвердить самое худшее, что говорили французы о его народе. Когда же иностранцы из-за своей глупости проиграли войну, тем самым доказав, что вьетнамцы далеко не трусы, отцу Тыонга уже нечего было доказывать - семья решила перебраться на Юг и отправилась туда небольшими группами, чтобы не попасть в руки Вьетмина.
Путь на Юг был труден с самого начала, и бабушка Тыонга, которую ему поручили сопровождать, едва не умерла от истощения. (Впоследствии Тыонг помнил только, как он искал для нее воду и как отдавал ей всю свою воду, и еще он помнил страшную жажду, которая томила его изо дня в день. Поэтому мысль о разделе страны всегда ассоциировалась у него с ощущением жажды). Когда они наконец оказались на Юге, выяснилось, что буддистов туда бежало немного и их всех поместили в лагерь для беженцев-католиков. В этом лагере семья Тыонга разделяла с католиками все трудности их положения нежеланных иммигрантов, но не разделяла с ними ни их веры, ни покровительства, которым они пользовались.
Благодаря связям отца Тыонгу удалось поступить в военное училище, после того как он полтора года дожидался своей очереди. В училище Тыонг быстро понял, что он северянин на Юге и буддист среди католиков, а потому всегда будет кому-то внушать недоверие и антипатию. Южане не доверяли ему потому, что он северянин, а католики - потому, что он буддист. В стране, лишенной идеалов и погрязшей в цинизме и погоне за личным благом, он не мог не внушать подозрений и, следовательно, оставался лейтенантом. Ему не доверяли, и он в свою очередь стал недоверчив и скептичен. С таким же фатализмом он принял все последствия того, что был сыном своего отца,- главным образом потому, что другого выбора у него не было, но зато в известной степени это давало ему возможность чувствовать себя независимым. Он мирился с их порядками, но пытался остаться самим собой. Он завидовал коммунистам - их вере в себя, их идеалам, их незыблемой уверенности в будущем; завидовал католикам - их вере, их солидарности; завидовал американцам - их энергии и идеализму; завидовал отцу - его душевной мягкости и неистребимой наивности (время от времени отец смущенно и растерянно его спрашивал, действительно ли ему необходимо быть военным, нельзя ли ему найти другое занятие. Конечно, отец знал, что военным хорошо платят...). Тыонг не верил в дело, которому служил, и подозревал, что война, вероятно, будет проиграна.
Нет, он не хотел переходить на сторону противника (хотя это было очень просто, стоило лишь во время операции отойти немного от своих) и не считал, что противник более прав: коммунисты ведь убили его дядю, точно так же как французы убили его двоюродного брата, по глупости стерев с лица земли деревню (до этого лояльную по отношению к ним), чего и добивался Вьетмин. Вьетминовцы были такие же, как французы, и отличались от последних лишь тем, что не терпели коррупции. Впрочем, Тыонг полагал, что десять лет у власти должны были бы и у Вьетмина развить вкус к коррупции (в зависимости от степени успеха, которого добился бы их режим, думал он: ведь чтобы стать продажным, режим должен добиться определенного успеха; если же успех не приходит, то режим остается неподкупным). От перехода на сторону противника Тыонга удерживала не мысль о том, что все эти годы он воевал против них и убил много их солдат (в отличие от его начальства они вели учет образцово и сразу узнали бы, кто он и кого убил); не боялся он и лишиться относительного комфорта Мито - содовой воды и охлажденного пива. Просто он знал, что слишком скептичен и не способен разделить энтузиазм коммунистов и их преданность своему делу. "Обрести веру во Вьетнаме,- думал он,- можно только в раннем детстве, а сохранить ее способен только тот, кому очень повезет".
А поэтому он старался как мог лучше выполнять свои лейтенантские обязанности. Андерсону, молодому американцу, он сказал, что ему двадцать пять лет, потому что не хотел ставить его в неловкое положение. Андерсон очень удивился: он думал, что Тыонг гораздо моложе. В какой-то мере Тыонг даже гордился тем, что он делал, но еще больше - тем, чего не делал: не выслуживался, не лебезил перед своим непосредственным начальником и не требовал длительного артиллерийского обстрела, перед тем как начать наступление на какую-нибудь деревню. Однако решающим мотивом его жизни был фатализм. В свое время его отец делал эти роковые ошибки, вдруг в самый неподходящий момент цепляясь за ложную принципиальность (ложную потому, думал Тыонг, что и его отец, и он сам на протяжении жизни шли на многие другие унизительные компромиссы и примирялись со многими другими обманами). А теперь и он упрямо и безрассудно уходил все дальше по той же безлюдной дороге. Он мог, например, сменить веру - другие же сменили. Ему тоже предлагали перейти в католичество. В академии с ним училось немало новоиспеченных католиков, и некоторые из них были теперь капитанами, а один - даже майором. Но для него сменить веру значило бы сдаться - он восхищался католиками на Севере, где они составляли меньшинство, но, перебравшись на Юг, они стали другими. То, что прежде казалось ему спокойным мужеством, здесь превратилось в надменность, и, конечно, надменнее всех были новообращенные.
И он продолжал идти своей дорогой - не дезертировал, потому что это навлекло бы неприятности на его родителей (а также и потому, что для него все равно ничего не изменилось бы), а в результате стал очень старым лейтенантом. В настоящее время особой наградой за его фатализм являлся капитан Данг. Капитан был на год моложе Тыонга, в армии служил меньше и скоро, по его собственным словам, должен был стать майором. У него были влиятельные родственники в Сайгоне, и он никогда об этом не забывал: постоянно уезжал в Сайгон и часто рассказывал о банкетах и званых вечерах, на которых присутствовал. Он часто хвалил Тыонга (хвалил в глаза, давая понять, что делал то же самое и в присутствии власть имущих) и говорил, что хлопочет о его повышении, хотя Тыонг был совершенно уверен, что если его и повысят когда-нибудь в чине, то лишь вопреки Дангу. Данг не помнил фамилии ни одного из своих солдат чином ниже капрала и сообщал заведомо неверные сведения о личном составе, систематически завышая фактические данные и скрывая цифры потерь (это было выгодно ему по двум причинам: так он избегал выговоров за потери в живой силе и получал за убитых их жалованье. Таким образом, если, по его данным, роте не хватало десяти человек, то фактически не хватало двадцати - двадцати пяти и соответственно увеличивалась нагрузка на остальных). Тыонг частично поправил положение тем, что взял у друга из соседней роты лишний ручной пулемет - они сначала потеряли этот пулемет, но потом, после длительного боя с вьетконговским батальоном, отбили его. Поскольку официально пулемет считался потерянным, то после возвращения он не попал в инвентарный список, а друг был в большом долгу перед Тыонгом, который в свое время одолжил им троих солдат перед ответственной инспекцией. Тыонг старался, насколько это было возможно, не замечать проделок Данга. Данг вполне его устраивал, так как полностью отвечал его представлению об офицерах и о порядках, царивших в армии, а это помогало ему легче переносить то, что его никак не повышали в чине. Обида была бы острее, если бы Данг оказался настоящим солдатом. Но вот уже два с половиной года он презирал Данга после одного случая. Это произошло незадолго до появления в стране американских вертолетов, обеспечивавших теперь молниеносную доставку подкреплений,- тогда еще приходилось преодолевать чувство жуткой оторванности от всего мира: тебя ранило, но ты остался один драться и умирать. В тот день их отряд попал в засаду и выдержал короткий, однако жестокий бой. Тыонг, как и все остальные, в первые секунды был парализован страхом, он не сомневался, что живым отсюда не уйдет, и вот тогда-то он увидел то, чего не мог ни простить, ни забыть (это, как ему казалось тогда, было последним, что он увидел перед смертью): Данг срывал со своих погон звездочки. "Если ты хочешь носить звездочки в фешенебельных сайгонских салонах,- думал Тыонг,- то носи их и в лесах Уминь".

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА ПЯТАЯ
"Дело не только в жаре,- думал Бопре, уже еле передвигая ноги.- Тут и жара и скука вместе". Скука была частью жары. Бопре совсем отупел от жары, у него кружилась голова, и он понимал, что проигрывает свою войну, которую ведет в одиночку. Он наблюдал за остальными: Андерсон пил, но его фляга, судя по наклону, была еще почти полна. Вьетнамский лейтенант Тыонг и вовсе не пил - Бопре даже не был уверен, что у него есть фляга. Наверно, есть, хотя он ни разу не видел, чтобы вьетнамец пил из нее. У Данга под мышками очень маленькие пятна, а часто их и вовсе не бывает - подходящий напарник, возможно, потому его и выбрали. Бопре старался выбросить из головы мысли о жаре, но они упорно возвращались. И в этом была вторая страшная особенность этой войны: восемь часов в походе (если повезет), а то и все четырнадцать (если не повезет) - их нельзя скоротать разговорами. Можно, конечно, перекинуться несколькими словами с Дангом - до сотни слов: да, капитан Данг; нет, капитан Данг; прекрасно, капитан Данг; пожалуйста, капитан Данг; очень хорошо, капитан Данг; американцы полагают; вьетнамцы хотят; вы; мы; благодарю вас, капитан. Ну, максимум двести слов. Андерсон - да, с Андерсоном можно поговорить, но не восемь же часов кряду. Хорошо, если наберется минут тридцать. А больше нельзя - приказ по дивизии. Полковнику это не нравится: вы, друзья, ходите на операции не для того, чтобы интервьюировать друг друга и выяснять, откуда родом ваши жены, вы здесь не для того, чтобы разговаривать с американцами, а для того, чтобы разговаривать с вьетнамцами. Конечно, полковник абсолютно прав. Сам он, наверно, разговаривает с Ко в общем десять минут в день: да, полковник Ко; нет, полковник Ко; вы; мы; вьетнамцы полагают; американцы считают; Сайгон; Вашингтон; хорошо; плохо.
У Бопре кружилась голова.
Неожиданно отряд вышел на поляну, и вьетнамцы без объявления, без приказа, повинуясь лишь какому-то неуловимому знаку, вдруг сделали привал (Бопре не слышал никакой команды - он никогда не знал заранее, что будет привал, не знал, объявляют ли его вьетнамские офицеры или солдаты сами решают, когда хотят, а офицеры уже потом отдают приказ). До сих пор Бопре ненавидел эти бесконечные привалы; он никак не мог приспособить свой ритм к ритму отряда: если он хотел идти, солдаты останавливались, если он хотел остановиться, они продолжали идти, да еще ускоренным маршем и даже бегом и при этом смеялись и шумели. Но на этот раз он обрадовался: жара его совсем доконала, в голове мутилось, и он со страхом ждал, что его вот-вот стошнит. Его форма насквозь промокла, лицо, походившее на красную маску, лоснилось от пота, смешанного с пылью и грязью, и щетина на жарких тропинках его щек, казалось, росла с неимоверной быстротой, точно растение джунглей. Он выбрал самое прохладное, как ему казалось, место под деревом, ближе к воде, и достал флягу. Воды, теплой от горячей фляги, осталось совсем немного. Он допил ее и слизнул с губ капли пота.
Подошел Андерсон, сел рядом и попросил сигарету.
- Вы же не курите. Обстановка вынуждает?
- Нет,- ответил Андерсон.- Пиявки. Слишком много каналов пришлось сегодня облазить. Особенно тот большой, последний. Теперь они обедают. На мне.
- Принимайте аварийный комплект системы Бопре в количестве одной сигареты,- сказал Бопре и достал из нагрудного кармана странный пакетик. Это была металлическая коробочка, обтянутая добротным, старомодным американским презервативом. Бопре хранил свои сигареты в коробочке, чтобы они не мялись, а коробочку обтягивал тонкой резиной, чтобы уберечь от сырости. Он говорил, что вполне может есть сандвичи, напитавшиеся водой рисовых полей - так они становятся только вкуснее, словно их смазали кетчупом,- но сырых сигарет не выносит. Другие офицеры сначала посмеивались над ним, но теперь уже многие пользовались таким же приспособлением, утверждая, что подобная упаковка предохраняет сигареты не только от сырости, но и от бактерий.
Андерсон раскурил сигарету и начал снимать штаны. Он принимал против пиявок отчаянные меры - эластичные трусы, вторые эластичные трусы, чулки до колен, еще чулки. Но ничто не помогало, и пиявки всегда оказывались победителями. Они были гениальны, они преодолевали все преграды, они достигали цели, устраивались поудобней и приступали к трапезе. Однажды Андерсон обнаружил пиявку у самого паха и едва не потерял сознание. Теперь он внимательно осматривал свои ноги - мягкое белое мясо, которое так им нравится. Сначала он ничего не нашел, но потом увидел их по одной на каждой ляжке, огромных, разбухших от его крови.
Бопре тоже их увидел.
- Вы были правы: они действительно обедают. Значит, вы научились их чувствовать. Пусть это послужит вам утешением.
- Вы только взгляните,- сказал Андерсон.- Какая гадость!
- Прекрасные экземпляры. Самые большие, каких только мне доводилось видеть в этой стране.
- Я их не выношу,- сказал Андерсон.
- А вы поставьте себя на их место,- посоветовал Бопре.- Как рекомендуют специалисты по психологической войне. Вы должны понять их точку зрения. Они воображают себя медицинскими пиявками. Они усвоили все, что про них пишут в их рекламах и в учебниках их истории, прониклись этим духом и теперь воображают, будто они не кровопийцы, а спасители. И занимаются спасением жизней. Улучшают взаимоотношения с вами. Оказывают вам первую помощь и бросают на вас лучшие свои силы - выделяют самых больших. Могу подтвердить, что это самые крупные экземпляры в стране, известной маленькими человечками и большими пиявками. Вам просто повезло, а вы всего только лейтенант.
- Не выношу этой гадости,- сказал Андерсон, лихорадочно затянулся и поднес сигарету к одной из пиявок, точно миниатюрный паяльник.
- Ну зачем же так! Лучше взгляните на это дело с другой стороны. Считайте, что вам оказана честь. Возьмите, к примеру, Большого Уильяма: пиявки для него - проблема, потому что его они не хотят трогать и не трогают. Прикоснуться к нему не желают, а ведь он капитан, и ростом выше вас, и крови у него, наверно, куда больше. Он говорил мне, что к нему ни разу не присосалась ни одна пиявка, и он уже подумывает, не обратиться ли ему с жалобой в отдел защиты гражданских прав или куда-нибудь повыше. Говорит, что тут попахивает расизмом. Вас же, хотя вы всего лишь лейтенант, они отмечают своим вниманием, а вы еще хотите жаловаться.
Он поглядел, как Андерсон тычет сигаретой в пиявку.
- Ну, раз уж вы ничего не хотите слушать, так задайте ей! Вот сюда тычьте. Не отнимайте. Не бойтесь. Не давайте ей загипнотизировать вас взглядом. Не позволяйте разжалобить. Не отступайте. Сильнее, сильнее. Ну вот, зашевелилась. Теперь жмите, она отступает! Задали же вы ей перцу. Молодцом!
Андерсон совсем побелел: он действительно ненавидел пиявок и испытывал невероятное физическое отвращение при виде того, как они висят на нем, пьют его кровь. Он уже свыкся со многими ужасами, которые видел здесь,- с мертвецами, чьи лица напоминали раздавленные дыни, с больными, покрытыми паршой детьми (хотя он плакал, когда впервые увидел их), с женщинами, до такой степени изможденными, что казалось, будто они умирают у него на глазах. Ко всему этому он привык, но даже при одной мысли о пиявках ему становилось дурно, и если бы он мог заставить себя, то с какой радостью попросил бы кого-нибудь снять с него пиявки, лишь бы не смотреть на них. Но это было бы слишком большим унижением.
- Должен сказать, вы ловко с ней справились,- сказал Бопре.- Ведь она глубоко впилась. Очень была уверена, что спасает вас. И впилась на совесть. Так что вам, пожалуй, останется шрам на память о ней. Как после хирургической операции.
- А вас они не трогают?- спросил Андерсон.
- Меня они боятся. Я для них ядовит. Некоторые пробовали было, но все поотравлялись. Они меня не выносят. А может, хотят мне что-то доказать. Ну-ка, дружище, берите еще сигарету для второй. Пиявки такого размера заслуживают по сигарете на брата!
Андерсон раскурил сигарету и начал действовать, но пиявка не пошевельнулась. Андерсон вновь и вновь прикладывал к ней тлеющий кончик сигареты, но пиявка оставалась неподвижной.
- Мне не хотелось бы вмешиваться,- сказал Бопре,- но вы начали не с того конца. Вы ей хвост прижигаете, а надо голову. Иначе она не уйдет.
Андерсон посмотрел на Бопре, не сомневаясь, что тот его разыгрывает.
- Как вы различаете голову и хвост? Ведь вообще неизвестно, есть ли у нее какие-нибудь концы. Не сочиняйте!- И он приложил сигарету к прежнему месту.
- Конечно, у них есть два конца. Как и у всех. А если вы не можете разобрать, где голова, так просто попробуйте с другого конца. И увидите. Конечно, вы не обязаны прислушиваться к моим советам. Кровь-то не моя.
Андерсон еще раз попробовал с того же конца. Пиявка не шелохнулась. Тогда он прижал сигарету к другому концу. Пиявка задвигалась.
- Ну вот видите. На этот раз вы прижгли нужный конец, как я и говорил.
Андерсон посмотрел на Бопре с недоумением, не зная, верить ли тому, что у пиявки действительно есть два конца.
- Однако эта вторая оказалась зловредней,- сказал Бопре.- Она набрала больше крови, чем первый пункт медицинской помощи.
Потом, словно разговаривая сам с собой, Бопре пробормотал:
- Черт, до чего паршиво я себя чувствую.
Он закрыл глаза, и у него отчаянно закружилась голова.
- Только уж здесь, в Аптханьтхой, вы меня не подводите,- сказал Андерсон.
- Вот, оказывается, где мы. Ну, я мог бы и сам догадаться. Голова кружится.- Бопре открыл глаза.
- Если судить по населенности, на Аптханьтхой непохоже. Но мы проверили, и оказалось верно. Запах тот самый.
- Это как раз и важно. Запах - это верная примета. Все остальное они могут изменить: переодеться, вывесить другое название, сломать полицейский участок, насадить больше цветов, но запаха они изменить не могут.
***
Деревня Аптханьтхой была пропавшей деревней. Шесть недель назад они не нашли ее во время операции, и с тех пор она превратилась в легенду. Это была операция поиска и уничтожения противника, и их предупреждали, что местное население, возможно, настроено не очень дружелюбно - при существовавшей системе смягчений это означало "крайне враждебно". Первый этап операции был завершен, согласно графику, без особого успеха и трудностей, после чего они двинулись к следующему объекту - к расположенной в четырех километрах оттуда деревне Аптханьтхой, которая была известна как весьма недружелюбная. Они прошли четыре километра и не обнаружили никакой деревни. Прошли еще километра полтора - и снова ничего. Тут их вызвал по радио полковник и потребовал доложить, добрались ли они до Аптханьтхой, и если нет, то почему, черт побери. Несколько минут спустя он поинтересовался, почему они выбились из графика, и сказал, что это наносит ущерб престижу штаба и всей армии, а главное - ему самому в глазах азиатских союзников. Бопре, сказал он сухим официальным голосом, ставит его в глупое положение перед полковником Ко, а он не любит выглядеть дураком ни перед кем, и тем более перед своим азиатским коллегой. Бопре ответил, что им тоже неловко, Дангу не менее неловко, чем ему самому.
- Мне нет дела до Данга!- сказал полковник.- Я ничего не хочу слышать о ваших трудностях, ваше дело - заставить этих чертовых вьетнамцев шевелиться. Вам платят не за то, чтобы вам было неловко, а за то, чтобы вы двигались.
Через десять минут, все еще не получив сообщения о том, что отряд вошел в деревню Аптханьтхой (к этому времени Бопре убедил Данга послать во все стороны разведчиков и поискать Аптханьтхой - Данг согласился удивительно легко, из чего можно было заключить, что Ко в свою очередь устроил ему нагоняй, так как, не обнаружив деревни, он осрамил своего начальника перед КП), полковник снова раздраженно закричал, чтобы они немедленно отыскали деревню, не то он прилетит туда на вертолете, устроит им теплую встречу, сделает за них все сам, а потом увезет на этом же вертолете обветренную задницу Бопре и чистенькую задницу из Вест-Пойнта, то есть задницу Андерсона, добавил полковник через секунду, от бешенства забыв было фамилию лейтенанта. Тут Бопре вышел из себя. "Моя обветренная задница,- сказал он,- отдыхает..." Он сообщил полковнику свои координаты и потребовал, чтобы ему назвали предполагаемые координаты деревни Аптханьтхой. Полковник назвал те же самые координаты. Тогда Бопре совсем уже рассердился, принес свои извинения полковнику и заявил, что они-то, сэр, находятся в вышеуказанном месте, а вот деревня - нет. Следовательно, во всем виновата деревня... "Эта ваша Аптханьтхой",- сказал он.
Полковник, судя по голосу, отнесся к словам Бопре сравнительно миролюбиво. Он повторил координаты, еще раз уточнил, откуда он пришел и куда направляется, а затем опять спросил, где же в таком случае деревня.
- Прошу прощения, сэр,- ответил Бопре,- но именно это хотели бы узнать находящиеся здесь двое американцев и сто пятьдесят вьетнамцев.
- На том берегу канала,- объявил полковник.- Именно на том берегу канала. На карте допущена ошибка.
- Прошу прощения, сэр,- сказал Бопре.- Ошибка действительно допущена, но деревни нет и на том берегу канала. Мы осматриваем его вот уже двадцать минут, но ее и там нет.
- Но она должна быть там!- настаивал полковник.- В донесениях даже сказано, что ее жители настроены враждебно. Раз они враждебно настроены, значит, деревня существует. Посмотрите вокруг себя, капитан Бопре. Что вы видите?
- Вьетнамцев, сэр, много вьетнамцев, много деревьев и несколько кустов.
- А что делают солдаты, Бопре?
- Солдаты садятся, сэр. Некоторые уже загрязняют канал, а кое-кто достает рис.
- Минутку,- сказал полковник.- Подождите минутку, Бопре. Не двигайтесь с места. Оставайтесь там, где находитесь. Считайте, что это Аптханьтхой.
Полковник послал разведывательный самолет, который несколько минут кружил над районом, не обнаружив деревни и не вызвав на себя огня противника. Тогда полковник по радио сказал Бопре:
- Зачеркните на своей карте Атттханьтхой, Бопре, и забудьте об этом. К вам, капитан, никаких претензий нет.
Бопре поблагодарил (полковник ему нравился) и высказал мнение, что следовало бы составить новые карты, поскольку пока они пользуются картами двадцатилетней давности, которые не всегда точны.
Вечером полковник не упомянул о случившемся, однако, по-видимому, вся группа советников была уже прекрасно осведомлена об этом происшествии, и с того дня название Аптханьтхой стало дежурным словечком. Если кто-нибудь ехал в Сайгон, он говорил, что едет в Аптханьтхой; если кто-то тяжело заболевал и дня три оставался в постели, то потом говорили, что он подцепил вирус в Аптханьтхой; если кто-нибудь из офицеров, гуляя с девушкой в Сайгоне, встречал приятеля, он говорил, что эта девушка из Аптханьтхой; если что-то не ладилось в походе и создавалась тяжелая обстановка, то говорили, что это случилось в Аптханьтхой; если планировалась операция и кого-то интересовала политическая обстановка в заданном районе, то ему говорили, что обстановка там не хуже, чем в Аптханьтхой.
***
"Дело не только в жаре,- думал Бопре, уже еле передвигая ноги.- Тут и жара и скука вместе". Скука была частью жары. Бопре совсем отупел от жары, у него кружилась голова, и он понимал, что проигрывает свою войну, которую ведет в одиночку. Он наблюдал за остальными: Андерсон пил, но его фляга, судя по наклону, была еще почти полна. Вьетнамский лейтенант Тыонг и вовсе не пил - Бопре даже не был уверен, что у него есть фляга. Наверно, есть, хотя он ни разу не видел, чтобы вьетнамец пил из нее. У Данга под мышками очень маленькие пятна, а часто их и вовсе не бывает - подходящий напарник, возможно, потому его и выбрали. Бопре старался выбросить из головы мысли о жаре, но они упорно возвращались. И в этом была вторая страшная особенность этой войны: восемь часов в походе (если повезет), а то и все четырнадцать (если не повезет) - их нельзя скоротать разговорами. Можно, конечно, перекинуться несколькими словами с Дангом - до сотни слов: да, капитан Данг; нет, капитан Данг; прекрасно, капитан Данг; пожалуйста, капитан Данг; очень хорошо, капитан Данг; американцы полагают; вьетнамцы хотят; вы; мы; благодарю вас, капитан. Ну, максимум двести слов. Андерсон - да, с Андерсоном можно поговорить, но не восемь же часов кряду. Хорошо, если наберется минут тридцать. А больше нельзя - приказ по дивизии. Полковнику это не нравится: вы, друзья, ходите на операции не для того, чтобы интервьюировать друг друга и выяснять, откуда родом ваши жены, вы здесь не для того, чтобы разговаривать с американцами, а для того, чтобы разговаривать с вьетнамцами. Конечно, полковник абсолютно прав. Сам он, наверно, разговаривает с Ко в общем десять минут в день: да, полковник Ко; нет, полковник Ко; вы; мы; вьетнамцы полагают; американцы считают; Сайгон; Вашингтон; хорошо; плохо.
У Бопре кружилась голова.
Неожиданно отряд вышел на поляну, и вьетнамцы без объявления, без приказа, повинуясь лишь какому-то неуловимому знаку, вдруг сделали привал (Бопре не слышал никакой команды - он никогда не знал заранее, что будет привал, не знал, объявляют ли его вьетнамские офицеры или солдаты сами решают, когда хотят, а офицеры уже потом отдают приказ). До сих пор Бопре ненавидел эти бесконечные привалы; он никак не мог приспособить свой ритм к ритму отряда: если он хотел идти, солдаты останавливались, если он хотел остановиться, они продолжали идти, да еще ускоренным маршем и даже бегом и при этом смеялись и шумели. Но на этот раз он обрадовался: жара его совсем доконала, в голове мутилось, и он со страхом ждал, что его вот-вот стошнит. Его форма насквозь промокла, лицо, походившее на красную маску, лоснилось от пота, смешанного с пылью и грязью, и щетина на жарких тропинках его щек, казалось, росла с неимоверной быстротой, точно растение джунглей. Он выбрал самое прохладное, как ему казалось, место под деревом, ближе к воде, и достал флягу. Воды, теплой от горячей фляги, осталось совсем немного. Он допил ее и слизнул с губ капли пота.
Подошел Андерсон, сел рядом и попросил сигарету.
- Вы же не курите. Обстановка вынуждает?
- Нет,- ответил Андерсон.- Пиявки. Слишком много каналов пришлось сегодня облазить. Особенно тот большой, последний. Теперь они обедают. На мне.
- Принимайте аварийный комплект системы Бопре в количестве одной сигареты,- сказал Бопре и достал из нагрудного кармана странный пакетик. Это была металлическая коробочка, обтянутая добротным, старомодным американским презервативом. Бопре хранил свои сигареты в коробочке, чтобы они не мялись, а коробочку обтягивал тонкой резиной, чтобы уберечь от сырости. Он говорил, что вполне может есть сандвичи, напитавшиеся водой рисовых полей - так они становятся только вкуснее, словно их смазали кетчупом,- но сырых сигарет не выносит. Другие офицеры сначала посмеивались над ним, но теперь уже многие пользовались таким же приспособлением, утверждая, что подобная упаковка предохраняет сигареты не только от сырости, но и от бактерий.
Андерсон раскурил сигарету и начал снимать штаны. Он принимал против пиявок отчаянные меры - эластичные трусы, вторые эластичные трусы, чулки до колен, еще чулки. Но ничто не помогало, и пиявки всегда оказывались победителями. Они были гениальны, они преодолевали все преграды, они достигали цели, устраивались поудобней и приступали к трапезе. Однажды Андерсон обнаружил пиявку у самого паха и едва не потерял сознание. Теперь он внимательно осматривал свои ноги - мягкое белое мясо, которое так им нравится. Сначала он ничего не нашел, но потом увидел их по одной на каждой ляжке, огромных, разбухших от его крови.
Бопре тоже их увидел.
- Вы были правы: они действительно обедают. Значит, вы научились их чувствовать. Пусть это послужит вам утешением.
- Вы только взгляните,- сказал Андерсон.- Какая гадость!
- Прекрасные экземпляры. Самые большие, каких только мне доводилось видеть в этой стране.
- Я их не выношу,- сказал Андерсон.
- А вы поставьте себя на их место,- посоветовал Бопре.- Как рекомендуют специалисты по психологической войне. Вы должны понять их точку зрения. Они воображают себя медицинскими пиявками. Они усвоили все, что про них пишут в их рекламах и в учебниках их истории, прониклись этим духом и теперь воображают, будто они не кровопийцы, а спасители. И занимаются спасением жизней. Улучшают взаимоотношения с вами. Оказывают вам первую помощь и бросают на вас лучшие свои силы - выделяют самых больших. Могу подтвердить, что это самые крупные экземпляры в стране, известной маленькими человечками и большими пиявками. Вам просто повезло, а вы всего только лейтенант.
- Не выношу этой гадости,- сказал Андерсон, лихорадочно затянулся и поднес сигарету к одной из пиявок, точно миниатюрный паяльник.
- Ну зачем же так! Лучше взгляните на это дело с другой стороны. Считайте, что вам оказана честь. Возьмите, к примеру, Большого Уильяма: пиявки для него - проблема, потому что его они не хотят трогать и не трогают. Прикоснуться к нему не желают, а ведь он капитан, и ростом выше вас, и крови у него, наверно, куда больше. Он говорил мне, что к нему ни разу не присосалась ни одна пиявка, и он уже подумывает, не обратиться ли ему с жалобой в отдел защиты гражданских прав или куда-нибудь повыше. Говорит, что тут попахивает расизмом. Вас же, хотя вы всего лишь лейтенант, они отмечают своим вниманием, а вы еще хотите жаловаться.
Он поглядел, как Андерсон тычет сигаретой в пиявку.
- Ну, раз уж вы ничего не хотите слушать, так задайте ей! Вот сюда тычьте. Не отнимайте. Не бойтесь. Не давайте ей загипнотизировать вас взглядом. Не позволяйте разжалобить. Не отступайте. Сильнее, сильнее. Ну вот, зашевелилась. Теперь жмите, она отступает! Задали же вы ей перцу. Молодцом!
Андерсон совсем побелел: он действительно ненавидел пиявок и испытывал невероятное физическое отвращение при виде того, как они висят на нем, пьют его кровь. Он уже свыкся со многими ужасами, которые видел здесь,- с мертвецами, чьи лица напоминали раздавленные дыни, с больными, покрытыми паршой детьми (хотя он плакал, когда впервые увидел их), с женщинами, до такой степени изможденными, что казалось, будто они умирают у него на глазах. Ко всему этому он привык, но даже при одной мысли о пиявках ему становилось дурно, и если бы он мог заставить себя, то с какой радостью попросил бы кого-нибудь снять с него пиявки, лишь бы не смотреть на них. Но это было бы слишком большим унижением.
- Должен сказать, вы ловко с ней справились,- сказал Бопре.- Ведь она глубоко впилась. Очень была уверена, что спасает вас. И впилась на совесть. Так что вам, пожалуй, останется шрам на память о ней. Как после хирургической операции.
- А вас они не трогают?- спросил Андерсон.
- Меня они боятся. Я для них ядовит. Некоторые пробовали было, но все поотравлялись. Они меня не выносят. А может, хотят мне что-то доказать. Ну-ка, дружище, берите еще сигарету для второй. Пиявки такого размера заслуживают по сигарете на брата!
Андерсон раскурил сигарету и начал действовать, но пиявка не пошевельнулась. Андерсон вновь и вновь прикладывал к ней тлеющий кончик сигареты, но пиявка оставалась неподвижной.
- Мне не хотелось бы вмешиваться,- сказал Бопре,- но вы начали не с того конца. Вы ей хвост прижигаете, а надо голову. Иначе она не уйдет.
Андерсон посмотрел на Бопре, не сомневаясь, что тот его разыгрывает.
- Как вы различаете голову и хвост? Ведь вообще неизвестно, есть ли у нее какие-нибудь концы. Не сочиняйте!- И он приложил сигарету к прежнему месту.
- Конечно, у них есть два конца. Как и у всех. А если вы не можете разобрать, где голова, так просто попробуйте с другого конца. И увидите. Конечно, вы не обязаны прислушиваться к моим советам. Кровь-то не моя.
Андерсон еще раз попробовал с того же конца. Пиявка не шелохнулась. Тогда он прижал сигарету к другому концу. Пиявка задвигалась.
- Ну вот видите. На этот раз вы прижгли нужный конец, как я и говорил.
Андерсон посмотрел на Бопре с недоумением, не зная, верить ли тому, что у пиявки действительно есть два конца.
- Однако эта вторая оказалась зловредней,- сказал Бопре.- Она набрала больше крови, чем первый пункт медицинской помощи.
Потом, словно разговаривая сам с собой, Бопре пробормотал:
- Черт, до чего паршиво я себя чувствую.
Он закрыл глаза, и у него отчаянно закружилась голова.
- Только уж здесь, в Аптханьтхой, вы меня не подводите,- сказал Андерсон.
- Вот, оказывается, где мы. Ну, я мог бы и сам догадаться. Голова кружится.- Бопре открыл глаза.
- Если судить по населенности, на Аптханьтхой непохоже. Но мы проверили, и оказалось верно. Запах тот самый.
- Это как раз и важно. Запах - это верная примета. Все остальное они могут изменить: переодеться, вывесить другое название, сломать полицейский участок, насадить больше цветов, но запаха они изменить не могут.
***
Деревня Аптханьтхой была пропавшей деревней. Шесть недель назад они не нашли ее во время операции, и с тех пор она превратилась в легенду. Это была операция поиска и уничтожения противника, и их предупреждали, что местное население, возможно, настроено не очень дружелюбно - при существовавшей системе смягчений это означало "крайне враждебно". Первый этап операции был завершен, согласно графику, без особого успеха и трудностей, после чего они двинулись к следующему объекту - к расположенной в четырех километрах оттуда деревне Аптханьтхой, которая была известна как весьма недружелюбная. Они прошли четыре километра и не обнаружили никакой деревни. Прошли еще километра полтора - и снова ничего. Тут их вызвал по радио полковник и потребовал доложить, добрались ли они до Аптханьтхой, и если нет, то почему, черт побери. Несколько минут спустя он поинтересовался, почему они выбились из графика, и сказал, что это наносит ущерб престижу штаба и всей армии, а главное - ему самому в глазах азиатских союзников. Бопре, сказал он сухим официальным голосом, ставит его в глупое положение перед полковником Ко, а он не любит выглядеть дураком ни перед кем, и тем более перед своим азиатским коллегой. Бопре ответил, что им тоже неловко, Дангу не менее неловко, чем ему самому.
- Мне нет дела до Данга!- сказал полковник.- Я ничего не хочу слышать о ваших трудностях, ваше дело - заставить этих чертовых вьетнамцев шевелиться. Вам платят не за то, чтобы вам было неловко, а за то, чтобы вы двигались.
Через десять минут, все еще не получив сообщения о том, что отряд вошел в деревню Аптханьтхой (к этому времени Бопре убедил Данга послать во все стороны разведчиков и поискать Аптханьтхой - Данг согласился удивительно легко, из чего можно было заключить, что Ко в свою очередь устроил ему нагоняй, так как, не обнаружив деревни, он осрамил своего начальника перед КП), полковник снова раздраженно закричал, чтобы они немедленно отыскали деревню, не то он прилетит туда на вертолете, устроит им теплую встречу, сделает за них все сам, а потом увезет на этом же вертолете обветренную задницу Бопре и чистенькую задницу из Вест-Пойнта, то есть задницу Андерсона, добавил полковник через секунду, от бешенства забыв было фамилию лейтенанта. Тут Бопре вышел из себя. "Моя обветренная задница,- сказал он,- отдыхает..." Он сообщил полковнику свои координаты и потребовал, чтобы ему назвали предполагаемые координаты деревни Аптханьтхой. Полковник назвал те же самые координаты. Тогда Бопре совсем уже рассердился, принес свои извинения полковнику и заявил, что они-то, сэр, находятся в вышеуказанном месте, а вот деревня - нет. Следовательно, во всем виновата деревня... "Эта ваша Аптханьтхой",- сказал он.
Полковник, судя по голосу, отнесся к словам Бопре сравнительно миролюбиво. Он повторил координаты, еще раз уточнил, откуда он пришел и куда направляется, а затем опять спросил, где же в таком случае деревня.
- Прошу прощения, сэр,- ответил Бопре,- но именно это хотели бы узнать находящиеся здесь двое американцев и сто пятьдесят вьетнамцев.
- На том берегу канала,- объявил полковник.- Именно на том берегу канала. На карте допущена ошибка.
- Прошу прощения, сэр,- сказал Бопре.- Ошибка действительно допущена, но деревни нет и на том берегу канала. Мы осматриваем его вот уже двадцать минут, но ее и там нет.
- Но она должна быть там!- настаивал полковник.- В донесениях даже сказано, что ее жители настроены враждебно. Раз они враждебно настроены, значит, деревня существует. Посмотрите вокруг себя, капитан Бопре. Что вы видите?
- Вьетнамцев, сэр, много вьетнамцев, много деревьев и несколько кустов.
- А что делают солдаты, Бопре?
- Солдаты садятся, сэр. Некоторые уже загрязняют канал, а кое-кто достает рис.
- Минутку,- сказал полковник.- Подождите минутку, Бопре. Не двигайтесь с места. Оставайтесь там, где находитесь. Считайте, что это Аптханьтхой.
Полковник послал разведывательный самолет, который несколько минут кружил над районом, не обнаружив деревни и не вызвав на себя огня противника. Тогда полковник по радио сказал Бопре:
- Зачеркните на своей карте Атттханьтхой, Бопре, и забудьте об этом. К вам, капитан, никаких претензий нет.
Бопре поблагодарил (полковник ему нравился) и высказал мнение, что следовало бы составить новые карты, поскольку пока они пользуются картами двадцатилетней давности, которые не всегда точны.
Вечером полковник не упомянул о случившемся, однако, по-видимому, вся группа советников была уже прекрасно осведомлена об этом происшествии, и с того дня название Аптханьтхой стало дежурным словечком. Если кто-нибудь ехал в Сайгон, он говорил, что едет в Аптханьтхой; если кто-то тяжело заболевал и дня три оставался в постели, то потом говорили, что он подцепил вирус в Аптханьтхой; если кто-нибудь из офицеров, гуляя с девушкой в Сайгоне, встречал приятеля, он говорил, что эта девушка из Аптханьтхой; если что-то не ладилось в походе и создавалась тяжелая обстановка, то говорили, что это случилось в Аптханьтхой; если планировалась операция и кого-то интересовала политическая обстановка в заданном районе, то ему говорили, что обстановка там не хуже, чем в Аптханьтхой.
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
- Милая наша Аптханьтхой,- сказал Андерсон.- Недавно я написал жене, что был в отпуске в Аптханьтхой и истратил сто долларов, потому что там очень дорогие гостиницы: пятнадцать долларов в день за номер и десять за питание и еще всякие дополнительные расходы, поскольку все там очень дорого, но перечислить их я просто не могу. Она в ответ прислала мне вот такое длинное письмо и сообщила, что это ничего, что она понимает, какие это дополнительные расходы, но она знает, насколько они необходимы солдату, и надеется только, что я приятно провел время. Она спросила у жен других офицеров про Аптханьтхой, потому что никогда не слышала про это место и не знала, где оно находится, и одна из них сказала, что это китайский публичный дом (то есть она-то написала "заведение") в Сайгоне, а другая сказала, что это островок, где французские солдаты заводили себе девушек. Тогда я написал ей, что такое Аптханьтхой и что, по-моему, это очень смешно. А она прислала мне такое возмущенное письмо, каких я ни разу еще не получал, и просила, чтобы я не обманывал ее, писала, что она ужасно расстроилась, что она не ожидала от меня такого, что теперь все другие жены смеются над ней и на что же я все-таки истратил сто долларов?
Андерсон взглянул на Бопре и продолжал:
- Нет, вы только представьте себе: не может мне простить, что я ни с кем не переспал. Ну, я понял, что шутки плохи и обманывать ее не надо, а потому, когда Кроуфорд уезжал в Гонконг, я дал ему чек на сто долларов и попросил купить на эти деньги новый стереофонический магнитофон, а потом написал ей, что хотел сделать ей сюрприз и эти сто долларов истратил на магнитофон. И она написала, что я замечательный и она меня очень любит.
Андерсон опять посмотрел на Бопре.
- Черт бы побрал этих женщин! Скажи я ей, что не тратил никаких ста долларов, она бы не поверила...- Он снова посмотрел на Бопре.- Знаете, капитан, хотя это и не мое дело, но вид у вас сегодня ужасный. Конечно, вы гораздо опытней меня в этих делах, но мне кажется, что в Сайгоне вы уж слишком даете себе волю. Вы злоупотребляете этим, не учитывая климат и жару.
Он ждал, что Бопре его выругает, а потом подумал, что старый хрен заснул. "Надрался вчера виски больше, чем мне казалось". Но, присмотревшись внимательнее, он обнаружил неладное: рот Бопре был приоткрыт, глаза смотрели невидящим взглядом. Андерсон понял, что это обморок.
Первым его побуждением было сообщить на КП, но он тут же понял, что ничего хуже не мог бы придумать. Нет, на КП сообщать нельзя, по крайней мере сейчас. Он посмотрел на Бопре и почувствовал отвращение к этому старику с грязным, небритым лицом. Развратничает, пьянствует, блюет во время отпуска, а потом при исполнении служебных обязанностей, пройдя немного пешком, без конца пьет воду и падает в обморок, точно офицер военно-морского флота. И какой пример для вьетнамцев! Вьетнамцы никогда много не пили, и Андерсон считал, что им должно быть противно смотреть на пьющих американцев. "Что они могут думать про нас, когда видят таких вот людей? А ведь мы призваны служить им примером как представители величайшей в мире армии - новой, современной, оснащенной вертолетами. А мы привозим им Бопре, который кричит и ругается, а пешком ходит хуже их женщин и не считает даже нужным следить за собой, хотя бы при посторонних". Именно нежелание Бопре скрывать свои слабости и коробило Андерсона. В частной жизни слабости тоже не похвальны, на все же допустимы; только вот если чувствуешь, что не можешь держать себя в руках, не показывайся на людях. И тем более в чужой стране. Пусть отводит душу в баре семинарии. Андерсон был уверен, что вьетнамцы не хуже его замечают, что от Бопре разит не только потом, но и виски.
Несколько минут назад лицо Бопре было багровым, теперь оно стало землисто-бледным. Андерсон встряхнул его флягу - она была практически пуста. Бопре выпил всю воду еще в первой половине дня, точно ребенок, который сразу съедает все конфеты. Андерсон достал свою почти полную флягу и перелил из нее половину во флягу Бопре. Потом налил в пригоршню немного воды и побрызгал Бопре на лицо. Он смотрел, как стекают капли, промывая в грязи узенькие чистые полоски. Андерсон плеснул еще раз, потом еще и наконец увидел, что глаза Бопре становятся осмысленнее.
- Все в порядке. Все в порядке, дружище,- торопливо пробормотал он.- Не бойтесь, теперь все хорошо.
Рука Андерсона снова потянулась к лицу капитана, а голос стал неожиданно ласковым. Как ни странно, но он уже не испытывал отвращения к этому старому офицеру и, сам не понимая почему, сочувствовал Бопре. К черту вьетнамцев, если они видели и если им это не понравилось. Пусть Бопре и старый дурак, но он наш дурак, американский, и к тому же офицер, повидавший много войн и много стран,- если бы эту войну вели более организованно и умело и если бы она стала чуточку более похожа на настоящую войну, возможно, он и не пил бы так много. А в этом они виноваты не меньше нас. И Бопре заработал себе право пить столько.
- Ну, все в порядке. Просто вы немного перегрелись. Такая уж страна. Бог отдает вьетнамцам всю неизрасходованную энергию солнца. Жара на всех действует, в том числе и на меня. И на вьетнамцев. И вы должны встать, чтобы помочь вьетнамцам выбраться отсюда.
Ему показалось, что Бопре кивнул.
- Жуткая жара,- продолжал Андерсон.- Такого дня я здесь не припомню. Еще один чертовски жаркий день, но мы выдержим.
Бопре вроде бы приходил в себя, вроде бы даже кивнул. Андерсон поднес ему флягу ко рту и, дав немного отпить, быстро отнял. Потом, выждав минуту, дал еще.
- Я ненавижу здешнюю жару и здешнее солнце,- сказал он.- Странно, я вырос в Миннесоте, а там всегда холодно, и я любил солнце. Мы всегда ждали, когда же оно начнет греть. Помню, даже поздней весной солнечные дни были событием, потому что после школы мы уже не мерзли в школьном автобусе. А потом мы ждали середины лета - только тогда солнце начинало греть по-настоящему, и я ходил купаться. Но я не сразу бросался в воду, а сперва лежал на берегу и наслаждался солнцем. Я подолгу жарился, пока весь не покрывался потом, и только тогда лез в воду. Я точно играл с солнцем. Я так его любил! Но теперь, побывав тут, я уже никогда не смогут относиться к солнцу по-прежнему, никогда не смогу подставить себя солнцу, не вспомнив про Вьетнам, про то, как я спрашивал себя, продержусь ли я еще день. Нет, больше я не буду греться на солнце.
- Я потерял сознание,- сказал Бопре. Андерсон похлопал его по плечу.- Вот черт! Надо же. Никогда со мной этого не бывало.
- В такую жару это может случиться с кем угодно. Потом вам же придется тащить меня.
- Мне очень неприятно, что я вас так подвел. Со мной никогда этого не бывало.- Бопре помолчал.- Данг видел?
- Нет,- ответил Андерсон, хотя был уверен, что Данг, конечно, ухитрился увидеть все: о таких вещах Данг всегда осведомлен.- Он был слишком занят беседой с генералами.
- Послушайте,- сказал Бопре,- я буду вам очень обязан, если вы не сообщите на КП. Со мной же это впервые. А вы знаете этих людей. Они обожают такие случаи.
- Им сейчас не до нас, спят, наверно. Нам ведь они не сообщают, когда им вздумается всхрапнуть.
- Этот чертов Данг наверняка знает.
Андерсон достал несколько солевых таблеток и протянул две штуки Бопре.
- Терпеть не могу этой дряни. Не буду глотать.
- Если вы их не примете, мне придется проторчать здесь с Дангом до конца дня.
- Ладно, дайте одну.
Андерсон дал ему одну таблетку и немного воды. Потом заставил Бопре наклониться к земле.
- Теперь лучше?
- Лучше. С диснеевскими фильмами пока все. Я опять во Вьетнаме. Не знаю только, действительно ли это лучше?
- Может быть, все-таки вызвать вертолет? Наверно, это возможно. Пожалуй, это наилучший вариант.
- Не надо. К черту вертолеты. Сам дойду. Всегда ходил сам. В тот день, когда не дойду, мне подадут деревянный ящик с американским флагом. Осталось четыре-пять миль, и я дойду. А если вызовете вертолет, меня уже не пустят ни на какие операции. А они будут рады: уйдет еще один капитан. Им этого только и надо. Переведут меня в отдел психологической войны и пошлют инспектировать стратегические населенные пункты. Я уже восемнадцать лет хожу, дойду и сегодня. Я же принял вашу таблетку, верно? Вы думаете, стал бы я ее глотать, если бы не собирался идти пешком?
- Ладно, я только хотел убедиться.
- Ну так теперь вы убедились.
Бопре поднялся и, еще нетвердо держась на ногах, несколько раз прошелся взад и вперед.
- Все в порядке,- сказал он.- Ну-ка, пошли поднимать вьетнамцев. Засиделись, черт их дери.
Бопре надвинул козырек фуражки почти на самые глаза. Андерсон предложил ему солнечные очки. Бопре не любил очков, считая, что их носят только богатые бездельники, но сейчас он их взял, надеясь, что с ними будет немного легче. Он любой ценой должен был избежать второго обморока - тогда Андерсону придется сообщить на КП. Он остановился и погрузил руки в воду канала. Вода была теплой, но все же казалась холоднее воздуха. Это был старый фокус, которому он научился в давние времена, еще в бытность свою строительным рабочим, когда воды было много и она была доступна. Потом он пошел дальше, не освеженный, но не испытывая и тошноты. Сначала он шел осторожно, и каждый шаг был достижением и залогом того, что он выживет, каждый шаг означал, что он еще не упал, не потерял сознание во второй раз. Затем он почувствовал, что может идти, что выдержит, и выругал себя за то, что сплоховал на глазах у мальчишки, за то, что наделал глупостей, за то, что вынужден был просить мальчишку не сообщать начальству о его обмороке. Он ругал себя за слабость, но уже не сомневался, что выдержит теперь до конца дня. Он осознал, что Андерсон идет за ним всего в нескольких шагах: Андерсон беспокоился и не верил в него. "Я покажу этим сосункам!"- подумал Бопре, обретая уверенность в себе, и вновь вошел в обычную колею длинного, жаркого дня.
Но привычное однообразие длилось недолго. Через десять минут заговорило радио. Голос был пронзительным и взволнованным настолько, что Бопре бросился к рации прежде, чем Андерсон успел позвать его.
- Большой Уильям! Только что обстреляли Большого Уильяма и его рейнджеров!- кричало радио.- Большой Уильям убит! Там творится бог знает что. Господи, Большого Уильяма убили, а я говорил с ним, когда он умирал, вот как сейчас с вами. Это было ужасно. "Сшибли Большого Уильяма и его рейнджеров, как кегли, как кегли",- повторял он все время. А потом умер. Я такое слышал в первый раз. Ужасно. Там все идет к чертям. Две трети состава ведущей роты погибло на месте. Без единого выстрела. Вьетнамцы просто свихнулись и плачут. Кроуфорд сказал, что ничего подобного никогда не видел: человек двадцать вьетнамцев несут тело Большого Уильяма и плачут, как черт знает кто. Он говорит, что никогда еще не видел, чтобы они плакали. А некоторые еще и повторяют: "Как дела, Большой Уильям? Дела идут хорошо". Точно так же, как он сам говорил. Черт знает что такое там делается!
Бопре взял у Андерсона рацию и стал успокаивать дежурного по КП:
- Говорите медленно. Начните сначала, только медленней. Меня не интересует, кто плачет, скажите лучше, кто убит и кто жив. Пожалуйста, говорите проще, прошу вас.
В конце концов ему удалось восстановить картину происшедшего: рота только что покинула деревню, где ее встретили очень дружелюбно ("Смотрите, как на них действует обаяние Большого Уильяма, они даже хотят назвать его именем свою деревню - деревня Большого Уильяма"), и настроение у них было очень хорошее. Большой Уильям утверждал, что в его честь крестьяне назовут не только эту деревню, но и все графство, и дежурный по КП сказал, что это невозможно, потому что во Вьетнаме нет графств. Ну и прекрасно, ответил Большой Уильям, пусть будет провинция, это звучит даже солиднее, почти как целая страна. А столице этой провинции он даст название Пиккенс, со смехом добавил он. И в этот момент вьетконговцы открыли огонь - застигли их врасплох на открытом месте,- и Большой Уильям сказал: "Я ранен, тяжело ранен, и ни одного выстрела - мы не выстрелили ни разу. Нас сшибли, как кегли"- и умер. Убиты и некоторые вьетнамские офицеры. "Раз-два - и готово,- сказал дежурный (он уже взял себя в руки).- Когда прибыли истребители, вьетконговцы ушли. А вертолеты за ранеными никак не вылетали. Пилот, которому надо было вылететь первым, уперся, потому что ему осталось дослужить одну неделю и ситуация ему не нравилась. Ну, в конце концов его послали вторым, и вертолеты никто не обстрелял, но там творилось черт знает что: вьетнамцы чуть не все кричали, что они ранены, и лезли в вертолет. Там черт знает что делалось".
Но теперь как будто все улеглось. Случилось это так быстро, что уже и кончилось, сообщил дежурный. Новых инструкций он не дал. Бопре было предложено следовать в заданном направлении. Возможно, потом придется замедлить марш, но это выяснится позднее. Полковник просит ему передать, чтобы он не менял своего положения в колонне: дурная примета.
- А преследование ведется?- спросил Бопре.
- По сути дела, нет. Все были заняты тем, чтобы поднять в воздух вертолеты, да и некоторое время нельзя было разобрать, кто там теперь за командира. Страшная была неразбериха.
- Почему не ведется?- спросил Бопре.
- Не знаю,- ответил дежурный.- Но наверно, они боялись, что вьетконговцы тогда всыплют им еще больше.
Разговор с КП закончился. Бопре и Андерсон вернулись к собственным проблемам.
- Ну вот, кончились для Большого Уильяма шелковые пижамы,- сказал Бопре.
- Какие шелковые пижамы?
- Те, что он так любил.
- Он вам нравился?
- Он был лучше большинства,- ответил Бопре, предоставляя Андерсону решать, подразумевает ли он большинство негров или большинство офицеров.
"Большой Уильям,- думал Бопре.- Я даже тут все испортил". После того трехдневного отпуска он старался избегать Большого Уильяма, но утром, когда тот вышел из столовой, они вдруг встретились. Большой Уильям шел навстречу, напевая какую-то песенку - себе под нос, а также и для всех, находившихся в радиусе десяти шагов: "Бум, бум, бум-де-дум-бум. Ах, какая крошка! Дум, дум, дум. Но она такая крошка!" "Негритянская музыка",- подумал Бопре.
- Вот это был отпуск. Большой Уильям едва ноги волочит. А мамасан сильна. Ну и сильна! Этой женщине памятник надо поставить. Совсем вымотался. А на постаменте написать: "Чемпионка". И больше ничего. "Чемпионка". В конце концов мне пришлось ей сказать: "Мама-сан, ты вьетконговка. Ты хочешь убить Большого Уильяма". А она начала рассказывать про какого-то неутомимого француза - того самого, который поставил французский рекорд. Так что пришлось мне задержаться, пока она не забыла и про француза и про всю Францию. Да-а, сильна женщина.- Большой Уильям улыбнулся.- Слушай, Бопэй, ты здоров? А ребята тебя полюбили. Просили, чтоб я снова тебя привел. Ну как, ничего? То-то, я же говорил. Большой Уильям друзей не подводит. Он для них все сделает.
- Да, конечно. Все было так, как ты говорил. Все было чудесно.
- Правда понравилось, а?
- Мой лучший отпуск в Сайгоне.
Но голос Бопре звучал фальшиво, и на лице Большого Уильяма появилась новая, совсем другая улыбка.
- Что это с тобой, Бопэй?- Большой Уильям смерил его долгим взглядом.- Так, значит, Большой Уильям как будто маху дал. Ну, впредь ему наука. Я думал, ты не такой. Приношу свои извинения. Нижайшие. И ты туда же! Здорово. Эх ты...- И он пошел дальше, улыбаясь еще шире и снова напевая:
- Бум, бум. Ах, какая крошка!
Эх, бедняга Уильям!
И вот Большой Уильям убит. Бопре прикинул, какую часть своего последнего дня на земле Большой Уильям потратил на то, чтобы смеяться над ним, Бопре. "А ты тратишь почти всю жизнь на то, чтобы подводить других",- подумал он с горечью.
Форма на Бопре опять была мокрой, только теперь не от дождя, а от пота. Новая полоска соли подмышками опустилась ниже прежних - белый меловой полукруг, который становился тем шире, чем дольше он оставался в этой стране. В будущем, чтобы подтвердить, что он был во Вьетнаме, ему достаточно будет показать вместо медалей свою рубашку. Ему хотелось пить, но, как ни странно, жажда вроде бы уменьшилась, словно то, что мысли сосредоточились сейчас на войне, способствовало ее утолению. Он не сомневался, что им грозит очень серьезная опасность, и в нем заговорило чувство самосохранения. И фляга была ему уже не нужна, во всяком случае в настоящую минуту, и силы его теперь поддерживал инстинкт самосохранения. Солдаты, как ему показалось, держались по-прежнему, хотя перед вступлением в первую деревню они на некоторое время подтянулись, сделались похожи на настоящих солдат и перестали лопотать - даже радист перестал. Когда Бопре приехал в страну и впервые услышал это лопотание, он очень возмущался, и кто-то кто именно, он не помнил, но, во всяком случае, такое объяснение мог дать только человек, чей срок был на исходе,- стал терпеливо втолковывать ему, что вьетнамский язык тональный, а это создает значительные затруднения при переговорах по радио, так как тон легко искажается, что приводит к изменению смысла фразы, вот и приходится несколько раз повторять одно и то же. Очень хорошо, ответил Бопре (он тогда еще не утратил честолюбия и энергии), а теперь скажите, чтобы они поменьше шумели и прекратили это дурацкое лопотание! Он был уверен, что противник перехватывает все это лопотание - ведь противник-то научился понимать его с пеленок, едва залопотал сам. В семинарии, когда он стал ругаться по этому поводу, его попробовали убедить, что противник не располагает техникой перехвата, но Бопре не верил ни противнику, ни обитателям семинарии.
Бопре хотел, чтобы солдаты шли быстрее, хотел быть настоящим командиром, который отдает приказания и видит, как они тут же выполняются, который может выслать разведку, может заставить солдат идти быстро или медленно, быть мужественными, быть стойкими, хотел, чтобы его ненавидели, боялись, даже любили,- лишь бы быть настоящим командиром. Он хотел идти быстрее, но не мог же он толкать их перед собой. Он было ускорил шаг, но тут же начал натыкаться на идущего впереди солдата, так что в конце концов вынужден был направиться к голове колонны. Толкать их перед собой он не может, но вдруг ему удастся подтянуть их за собой. Да и вообще он предпочитал ходить в голове колонны, полагая, что ставить там вьетнамца не следует. Когда он выбрался вперед, он увидел там молодого приземистого вьетнамца, который с готовностью уступил ему свое место и, широко улыбнувшись, поблагодарил американца.
Бопре удалось ускорить темп марша, но он все время оглядывался, опасаясь, не отстала ли колонна.
***
Узнав о засаде, Тыонг стал ждать, когда к нему подойдет Андерсон. Это было неизбежно. Это был ритуал. Если б только была возможность, если бы на той стороне канала сейчас находился патруль, он ушел бы туда, лишь бы избежать предстоящего разговора. Он прекрасно знал, как именно пойдет этот разговор - один из тех, которые он мысленно называл заупокойной службой. Андерсон выразит сожаление о погибших, и Тыонг выразит сожаление, затем Андерсон заговорит о погибших вьетнамцах, отдельно упомянет вьетнамского офицера (Он его знал? И будет его хвалить. Он его не знал? И выразит сожаление, что не знал его лучше), а потом скажет несколько слов о том, какая печальная вещь война. Тыонг знал все это наизусть. Когда Андерсон хвалил вьетнамских офицеров, Тыонг был вынужден соглашаться и нередко хвалить людей, которых он презирал. Конечно, ему и до Андерсона приходилось выслушивать то же самое от других американцев (за исключением, разумеется, Рейнуотера, который свято веровал в закон больших чисел и почти не скрывал радости, когда во время засады убивали кого-то другого), но у Андерсона это получалось лучше всех. Андерсон был самым искренним и поэтому самым худшим из них, с точки зрения Тыонга. Сам он не хотел, чтобы такую панихиду отслужили бы по нему в других отрядах: "Как фамилия этого погибшего вьетнамского офицера?"- "Тыонг".- "Тыонг?" - "Тыонг".- "Тот, который с усиками?" - "Нет, не тот. Кажется, другой, маленький". "Который маленький?" - "Тот, гордый".- "Ах, этот Тыонг! Высокомерный сукин сын, но хороший офицер".- "Да".
Андерсон пришел во время привала - какого по счету, Тыонг уже не знал. Он мог отмерять их только по боли в ступне, которая во время отдыха усиливалась. Сейчас нога совсем разболелась, и Тыонг предпочел бы идти дальше, но, конечно, привал затянулся. Ему отчаянно хотелось снять ботинок и посмотреть, какой стала ступня - белой, распухшей, а может быть, и зеленоватой. Но он не решился разуться, боясь, что подойдет Данг и поднимет шум. Да и американцам ни к чему это видеть. Он старался представить себе, какого цвета сейчас у него ступня, и тут явился Андерсон.
Разговор шел как по нотам. Это была скверная засада. Они все скверные. Столько гибнет ваших соотечественников. Вьетнамский народ уже привык к этому - как к солнцу или дождю; возможно, если бы это прекратилось, возникло бы ощущение, что чего-то не хватает. Потом опять заговорил Андерсон, он был так вежлив, деликатен, тактичен. Когда Тыонг только познакомился с ним, он подумал: наконец-то настоящий Американец с большой буквы высокий, сильный и чистый, с такими светлыми волосами на руках. И Тыонг сразу же подумал, что такой гигант должен выпивать очень много молока. (Одним из первых вопросов, который он почти застенчиво задал Андерсону на третий день их знакомства, было: правда, ли, что в Америке можно пить сколько угодно молока? Они почти час обсуждали американские завтраки и молоко, и это был один из самых приятных их разговоров). Теперь Андерсон продолжал говорить о засаде и о погибших, не делая различия между убитыми вьетнамцами и убитыми американцами, и это сердило Тыонга, который считал это лицемерием - не может же он и в самом деле скорбеть о смерти вьетнамцев. Андерсон выразил сожаление о гибели капитана Хо Ван Вьена; капитан, как выяснилось, относился к тем вьетнамским офицерам, которых Андерсон почти не знал и хотел бы узнать поближе.
- Если бы вы познакомились с капитаном Хо Ван Вьеном поближе, то узнали бы, как это знал я, его солдаты и ваш высокий негритянский друг, что капитан Вьен был merde [Merde - дерьмо (фр.)]. Это французское слово тут подходит больше всего. Его не интересовали ни люди, которые с ним служили, ни сама война, и он не заботился о своих солдатах. Если вьетконговцы и убили его, то, наверно, случайно. Мне очень жаль, что я вынужден так отозваться в беседе с американцем о моем соотечественнике, и тем более умершем. Надеюсь, вы меня извините.
Тыонг увидел на лице Андерсона спокойное удивление и понял, что напряженность между ними возникла по его вине.
Андерсон, относившийся теперь к Тыонгу более жестко, чем месяц назад, пристально посмотрел на него и сказал:
- Вам виднее, лейтенант Тыонг.
***
Андерсон взглянул на Бопре и продолжал:
- Нет, вы только представьте себе: не может мне простить, что я ни с кем не переспал. Ну, я понял, что шутки плохи и обманывать ее не надо, а потому, когда Кроуфорд уезжал в Гонконг, я дал ему чек на сто долларов и попросил купить на эти деньги новый стереофонический магнитофон, а потом написал ей, что хотел сделать ей сюрприз и эти сто долларов истратил на магнитофон. И она написала, что я замечательный и она меня очень любит.
Андерсон опять посмотрел на Бопре.
- Черт бы побрал этих женщин! Скажи я ей, что не тратил никаких ста долларов, она бы не поверила...- Он снова посмотрел на Бопре.- Знаете, капитан, хотя это и не мое дело, но вид у вас сегодня ужасный. Конечно, вы гораздо опытней меня в этих делах, но мне кажется, что в Сайгоне вы уж слишком даете себе волю. Вы злоупотребляете этим, не учитывая климат и жару.
Он ждал, что Бопре его выругает, а потом подумал, что старый хрен заснул. "Надрался вчера виски больше, чем мне казалось". Но, присмотревшись внимательнее, он обнаружил неладное: рот Бопре был приоткрыт, глаза смотрели невидящим взглядом. Андерсон понял, что это обморок.
Первым его побуждением было сообщить на КП, но он тут же понял, что ничего хуже не мог бы придумать. Нет, на КП сообщать нельзя, по крайней мере сейчас. Он посмотрел на Бопре и почувствовал отвращение к этому старику с грязным, небритым лицом. Развратничает, пьянствует, блюет во время отпуска, а потом при исполнении служебных обязанностей, пройдя немного пешком, без конца пьет воду и падает в обморок, точно офицер военно-морского флота. И какой пример для вьетнамцев! Вьетнамцы никогда много не пили, и Андерсон считал, что им должно быть противно смотреть на пьющих американцев. "Что они могут думать про нас, когда видят таких вот людей? А ведь мы призваны служить им примером как представители величайшей в мире армии - новой, современной, оснащенной вертолетами. А мы привозим им Бопре, который кричит и ругается, а пешком ходит хуже их женщин и не считает даже нужным следить за собой, хотя бы при посторонних". Именно нежелание Бопре скрывать свои слабости и коробило Андерсона. В частной жизни слабости тоже не похвальны, на все же допустимы; только вот если чувствуешь, что не можешь держать себя в руках, не показывайся на людях. И тем более в чужой стране. Пусть отводит душу в баре семинарии. Андерсон был уверен, что вьетнамцы не хуже его замечают, что от Бопре разит не только потом, но и виски.
Несколько минут назад лицо Бопре было багровым, теперь оно стало землисто-бледным. Андерсон встряхнул его флягу - она была практически пуста. Бопре выпил всю воду еще в первой половине дня, точно ребенок, который сразу съедает все конфеты. Андерсон достал свою почти полную флягу и перелил из нее половину во флягу Бопре. Потом налил в пригоршню немного воды и побрызгал Бопре на лицо. Он смотрел, как стекают капли, промывая в грязи узенькие чистые полоски. Андерсон плеснул еще раз, потом еще и наконец увидел, что глаза Бопре становятся осмысленнее.
- Все в порядке. Все в порядке, дружище,- торопливо пробормотал он.- Не бойтесь, теперь все хорошо.
Рука Андерсона снова потянулась к лицу капитана, а голос стал неожиданно ласковым. Как ни странно, но он уже не испытывал отвращения к этому старому офицеру и, сам не понимая почему, сочувствовал Бопре. К черту вьетнамцев, если они видели и если им это не понравилось. Пусть Бопре и старый дурак, но он наш дурак, американский, и к тому же офицер, повидавший много войн и много стран,- если бы эту войну вели более организованно и умело и если бы она стала чуточку более похожа на настоящую войну, возможно, он и не пил бы так много. А в этом они виноваты не меньше нас. И Бопре заработал себе право пить столько.
- Ну, все в порядке. Просто вы немного перегрелись. Такая уж страна. Бог отдает вьетнамцам всю неизрасходованную энергию солнца. Жара на всех действует, в том числе и на меня. И на вьетнамцев. И вы должны встать, чтобы помочь вьетнамцам выбраться отсюда.
Ему показалось, что Бопре кивнул.
- Жуткая жара,- продолжал Андерсон.- Такого дня я здесь не припомню. Еще один чертовски жаркий день, но мы выдержим.
Бопре вроде бы приходил в себя, вроде бы даже кивнул. Андерсон поднес ему флягу ко рту и, дав немного отпить, быстро отнял. Потом, выждав минуту, дал еще.
- Я ненавижу здешнюю жару и здешнее солнце,- сказал он.- Странно, я вырос в Миннесоте, а там всегда холодно, и я любил солнце. Мы всегда ждали, когда же оно начнет греть. Помню, даже поздней весной солнечные дни были событием, потому что после школы мы уже не мерзли в школьном автобусе. А потом мы ждали середины лета - только тогда солнце начинало греть по-настоящему, и я ходил купаться. Но я не сразу бросался в воду, а сперва лежал на берегу и наслаждался солнцем. Я подолгу жарился, пока весь не покрывался потом, и только тогда лез в воду. Я точно играл с солнцем. Я так его любил! Но теперь, побывав тут, я уже никогда не смогут относиться к солнцу по-прежнему, никогда не смогу подставить себя солнцу, не вспомнив про Вьетнам, про то, как я спрашивал себя, продержусь ли я еще день. Нет, больше я не буду греться на солнце.
- Я потерял сознание,- сказал Бопре. Андерсон похлопал его по плечу.- Вот черт! Надо же. Никогда со мной этого не бывало.
- В такую жару это может случиться с кем угодно. Потом вам же придется тащить меня.
- Мне очень неприятно, что я вас так подвел. Со мной никогда этого не бывало.- Бопре помолчал.- Данг видел?
- Нет,- ответил Андерсон, хотя был уверен, что Данг, конечно, ухитрился увидеть все: о таких вещах Данг всегда осведомлен.- Он был слишком занят беседой с генералами.
- Послушайте,- сказал Бопре,- я буду вам очень обязан, если вы не сообщите на КП. Со мной же это впервые. А вы знаете этих людей. Они обожают такие случаи.
- Им сейчас не до нас, спят, наверно. Нам ведь они не сообщают, когда им вздумается всхрапнуть.
- Этот чертов Данг наверняка знает.
Андерсон достал несколько солевых таблеток и протянул две штуки Бопре.
- Терпеть не могу этой дряни. Не буду глотать.
- Если вы их не примете, мне придется проторчать здесь с Дангом до конца дня.
- Ладно, дайте одну.
Андерсон дал ему одну таблетку и немного воды. Потом заставил Бопре наклониться к земле.
- Теперь лучше?
- Лучше. С диснеевскими фильмами пока все. Я опять во Вьетнаме. Не знаю только, действительно ли это лучше?
- Может быть, все-таки вызвать вертолет? Наверно, это возможно. Пожалуй, это наилучший вариант.
- Не надо. К черту вертолеты. Сам дойду. Всегда ходил сам. В тот день, когда не дойду, мне подадут деревянный ящик с американским флагом. Осталось четыре-пять миль, и я дойду. А если вызовете вертолет, меня уже не пустят ни на какие операции. А они будут рады: уйдет еще один капитан. Им этого только и надо. Переведут меня в отдел психологической войны и пошлют инспектировать стратегические населенные пункты. Я уже восемнадцать лет хожу, дойду и сегодня. Я же принял вашу таблетку, верно? Вы думаете, стал бы я ее глотать, если бы не собирался идти пешком?
- Ладно, я только хотел убедиться.
- Ну так теперь вы убедились.
Бопре поднялся и, еще нетвердо держась на ногах, несколько раз прошелся взад и вперед.
- Все в порядке,- сказал он.- Ну-ка, пошли поднимать вьетнамцев. Засиделись, черт их дери.
Бопре надвинул козырек фуражки почти на самые глаза. Андерсон предложил ему солнечные очки. Бопре не любил очков, считая, что их носят только богатые бездельники, но сейчас он их взял, надеясь, что с ними будет немного легче. Он любой ценой должен был избежать второго обморока - тогда Андерсону придется сообщить на КП. Он остановился и погрузил руки в воду канала. Вода была теплой, но все же казалась холоднее воздуха. Это был старый фокус, которому он научился в давние времена, еще в бытность свою строительным рабочим, когда воды было много и она была доступна. Потом он пошел дальше, не освеженный, но не испытывая и тошноты. Сначала он шел осторожно, и каждый шаг был достижением и залогом того, что он выживет, каждый шаг означал, что он еще не упал, не потерял сознание во второй раз. Затем он почувствовал, что может идти, что выдержит, и выругал себя за то, что сплоховал на глазах у мальчишки, за то, что наделал глупостей, за то, что вынужден был просить мальчишку не сообщать начальству о его обмороке. Он ругал себя за слабость, но уже не сомневался, что выдержит теперь до конца дня. Он осознал, что Андерсон идет за ним всего в нескольких шагах: Андерсон беспокоился и не верил в него. "Я покажу этим сосункам!"- подумал Бопре, обретая уверенность в себе, и вновь вошел в обычную колею длинного, жаркого дня.
Но привычное однообразие длилось недолго. Через десять минут заговорило радио. Голос был пронзительным и взволнованным настолько, что Бопре бросился к рации прежде, чем Андерсон успел позвать его.
- Большой Уильям! Только что обстреляли Большого Уильяма и его рейнджеров!- кричало радио.- Большой Уильям убит! Там творится бог знает что. Господи, Большого Уильяма убили, а я говорил с ним, когда он умирал, вот как сейчас с вами. Это было ужасно. "Сшибли Большого Уильяма и его рейнджеров, как кегли, как кегли",- повторял он все время. А потом умер. Я такое слышал в первый раз. Ужасно. Там все идет к чертям. Две трети состава ведущей роты погибло на месте. Без единого выстрела. Вьетнамцы просто свихнулись и плачут. Кроуфорд сказал, что ничего подобного никогда не видел: человек двадцать вьетнамцев несут тело Большого Уильяма и плачут, как черт знает кто. Он говорит, что никогда еще не видел, чтобы они плакали. А некоторые еще и повторяют: "Как дела, Большой Уильям? Дела идут хорошо". Точно так же, как он сам говорил. Черт знает что такое там делается!
Бопре взял у Андерсона рацию и стал успокаивать дежурного по КП:
- Говорите медленно. Начните сначала, только медленней. Меня не интересует, кто плачет, скажите лучше, кто убит и кто жив. Пожалуйста, говорите проще, прошу вас.
В конце концов ему удалось восстановить картину происшедшего: рота только что покинула деревню, где ее встретили очень дружелюбно ("Смотрите, как на них действует обаяние Большого Уильяма, они даже хотят назвать его именем свою деревню - деревня Большого Уильяма"), и настроение у них было очень хорошее. Большой Уильям утверждал, что в его честь крестьяне назовут не только эту деревню, но и все графство, и дежурный по КП сказал, что это невозможно, потому что во Вьетнаме нет графств. Ну и прекрасно, ответил Большой Уильям, пусть будет провинция, это звучит даже солиднее, почти как целая страна. А столице этой провинции он даст название Пиккенс, со смехом добавил он. И в этот момент вьетконговцы открыли огонь - застигли их врасплох на открытом месте,- и Большой Уильям сказал: "Я ранен, тяжело ранен, и ни одного выстрела - мы не выстрелили ни разу. Нас сшибли, как кегли"- и умер. Убиты и некоторые вьетнамские офицеры. "Раз-два - и готово,- сказал дежурный (он уже взял себя в руки).- Когда прибыли истребители, вьетконговцы ушли. А вертолеты за ранеными никак не вылетали. Пилот, которому надо было вылететь первым, уперся, потому что ему осталось дослужить одну неделю и ситуация ему не нравилась. Ну, в конце концов его послали вторым, и вертолеты никто не обстрелял, но там творилось черт знает что: вьетнамцы чуть не все кричали, что они ранены, и лезли в вертолет. Там черт знает что делалось".
Но теперь как будто все улеглось. Случилось это так быстро, что уже и кончилось, сообщил дежурный. Новых инструкций он не дал. Бопре было предложено следовать в заданном направлении. Возможно, потом придется замедлить марш, но это выяснится позднее. Полковник просит ему передать, чтобы он не менял своего положения в колонне: дурная примета.
- А преследование ведется?- спросил Бопре.
- По сути дела, нет. Все были заняты тем, чтобы поднять в воздух вертолеты, да и некоторое время нельзя было разобрать, кто там теперь за командира. Страшная была неразбериха.
- Почему не ведется?- спросил Бопре.
- Не знаю,- ответил дежурный.- Но наверно, они боялись, что вьетконговцы тогда всыплют им еще больше.
Разговор с КП закончился. Бопре и Андерсон вернулись к собственным проблемам.
- Ну вот, кончились для Большого Уильяма шелковые пижамы,- сказал Бопре.
- Какие шелковые пижамы?
- Те, что он так любил.
- Он вам нравился?
- Он был лучше большинства,- ответил Бопре, предоставляя Андерсону решать, подразумевает ли он большинство негров или большинство офицеров.
"Большой Уильям,- думал Бопре.- Я даже тут все испортил". После того трехдневного отпуска он старался избегать Большого Уильяма, но утром, когда тот вышел из столовой, они вдруг встретились. Большой Уильям шел навстречу, напевая какую-то песенку - себе под нос, а также и для всех, находившихся в радиусе десяти шагов: "Бум, бум, бум-де-дум-бум. Ах, какая крошка! Дум, дум, дум. Но она такая крошка!" "Негритянская музыка",- подумал Бопре.
- Вот это был отпуск. Большой Уильям едва ноги волочит. А мамасан сильна. Ну и сильна! Этой женщине памятник надо поставить. Совсем вымотался. А на постаменте написать: "Чемпионка". И больше ничего. "Чемпионка". В конце концов мне пришлось ей сказать: "Мама-сан, ты вьетконговка. Ты хочешь убить Большого Уильяма". А она начала рассказывать про какого-то неутомимого француза - того самого, который поставил французский рекорд. Так что пришлось мне задержаться, пока она не забыла и про француза и про всю Францию. Да-а, сильна женщина.- Большой Уильям улыбнулся.- Слушай, Бопэй, ты здоров? А ребята тебя полюбили. Просили, чтоб я снова тебя привел. Ну как, ничего? То-то, я же говорил. Большой Уильям друзей не подводит. Он для них все сделает.
- Да, конечно. Все было так, как ты говорил. Все было чудесно.
- Правда понравилось, а?
- Мой лучший отпуск в Сайгоне.
Но голос Бопре звучал фальшиво, и на лице Большого Уильяма появилась новая, совсем другая улыбка.
- Что это с тобой, Бопэй?- Большой Уильям смерил его долгим взглядом.- Так, значит, Большой Уильям как будто маху дал. Ну, впредь ему наука. Я думал, ты не такой. Приношу свои извинения. Нижайшие. И ты туда же! Здорово. Эх ты...- И он пошел дальше, улыбаясь еще шире и снова напевая:
- Бум, бум. Ах, какая крошка!
Эх, бедняга Уильям!
И вот Большой Уильям убит. Бопре прикинул, какую часть своего последнего дня на земле Большой Уильям потратил на то, чтобы смеяться над ним, Бопре. "А ты тратишь почти всю жизнь на то, чтобы подводить других",- подумал он с горечью.
Форма на Бопре опять была мокрой, только теперь не от дождя, а от пота. Новая полоска соли подмышками опустилась ниже прежних - белый меловой полукруг, который становился тем шире, чем дольше он оставался в этой стране. В будущем, чтобы подтвердить, что он был во Вьетнаме, ему достаточно будет показать вместо медалей свою рубашку. Ему хотелось пить, но, как ни странно, жажда вроде бы уменьшилась, словно то, что мысли сосредоточились сейчас на войне, способствовало ее утолению. Он не сомневался, что им грозит очень серьезная опасность, и в нем заговорило чувство самосохранения. И фляга была ему уже не нужна, во всяком случае в настоящую минуту, и силы его теперь поддерживал инстинкт самосохранения. Солдаты, как ему показалось, держались по-прежнему, хотя перед вступлением в первую деревню они на некоторое время подтянулись, сделались похожи на настоящих солдат и перестали лопотать - даже радист перестал. Когда Бопре приехал в страну и впервые услышал это лопотание, он очень возмущался, и кто-то кто именно, он не помнил, но, во всяком случае, такое объяснение мог дать только человек, чей срок был на исходе,- стал терпеливо втолковывать ему, что вьетнамский язык тональный, а это создает значительные затруднения при переговорах по радио, так как тон легко искажается, что приводит к изменению смысла фразы, вот и приходится несколько раз повторять одно и то же. Очень хорошо, ответил Бопре (он тогда еще не утратил честолюбия и энергии), а теперь скажите, чтобы они поменьше шумели и прекратили это дурацкое лопотание! Он был уверен, что противник перехватывает все это лопотание - ведь противник-то научился понимать его с пеленок, едва залопотал сам. В семинарии, когда он стал ругаться по этому поводу, его попробовали убедить, что противник не располагает техникой перехвата, но Бопре не верил ни противнику, ни обитателям семинарии.
Бопре хотел, чтобы солдаты шли быстрее, хотел быть настоящим командиром, который отдает приказания и видит, как они тут же выполняются, который может выслать разведку, может заставить солдат идти быстро или медленно, быть мужественными, быть стойкими, хотел, чтобы его ненавидели, боялись, даже любили,- лишь бы быть настоящим командиром. Он хотел идти быстрее, но не мог же он толкать их перед собой. Он было ускорил шаг, но тут же начал натыкаться на идущего впереди солдата, так что в конце концов вынужден был направиться к голове колонны. Толкать их перед собой он не может, но вдруг ему удастся подтянуть их за собой. Да и вообще он предпочитал ходить в голове колонны, полагая, что ставить там вьетнамца не следует. Когда он выбрался вперед, он увидел там молодого приземистого вьетнамца, который с готовностью уступил ему свое место и, широко улыбнувшись, поблагодарил американца.
Бопре удалось ускорить темп марша, но он все время оглядывался, опасаясь, не отстала ли колонна.
***
Узнав о засаде, Тыонг стал ждать, когда к нему подойдет Андерсон. Это было неизбежно. Это был ритуал. Если б только была возможность, если бы на той стороне канала сейчас находился патруль, он ушел бы туда, лишь бы избежать предстоящего разговора. Он прекрасно знал, как именно пойдет этот разговор - один из тех, которые он мысленно называл заупокойной службой. Андерсон выразит сожаление о погибших, и Тыонг выразит сожаление, затем Андерсон заговорит о погибших вьетнамцах, отдельно упомянет вьетнамского офицера (Он его знал? И будет его хвалить. Он его не знал? И выразит сожаление, что не знал его лучше), а потом скажет несколько слов о том, какая печальная вещь война. Тыонг знал все это наизусть. Когда Андерсон хвалил вьетнамских офицеров, Тыонг был вынужден соглашаться и нередко хвалить людей, которых он презирал. Конечно, ему и до Андерсона приходилось выслушивать то же самое от других американцев (за исключением, разумеется, Рейнуотера, который свято веровал в закон больших чисел и почти не скрывал радости, когда во время засады убивали кого-то другого), но у Андерсона это получалось лучше всех. Андерсон был самым искренним и поэтому самым худшим из них, с точки зрения Тыонга. Сам он не хотел, чтобы такую панихиду отслужили бы по нему в других отрядах: "Как фамилия этого погибшего вьетнамского офицера?"- "Тыонг".- "Тыонг?" - "Тыонг".- "Тот, который с усиками?" - "Нет, не тот. Кажется, другой, маленький". "Который маленький?" - "Тот, гордый".- "Ах, этот Тыонг! Высокомерный сукин сын, но хороший офицер".- "Да".
Андерсон пришел во время привала - какого по счету, Тыонг уже не знал. Он мог отмерять их только по боли в ступне, которая во время отдыха усиливалась. Сейчас нога совсем разболелась, и Тыонг предпочел бы идти дальше, но, конечно, привал затянулся. Ему отчаянно хотелось снять ботинок и посмотреть, какой стала ступня - белой, распухшей, а может быть, и зеленоватой. Но он не решился разуться, боясь, что подойдет Данг и поднимет шум. Да и американцам ни к чему это видеть. Он старался представить себе, какого цвета сейчас у него ступня, и тут явился Андерсон.
Разговор шел как по нотам. Это была скверная засада. Они все скверные. Столько гибнет ваших соотечественников. Вьетнамский народ уже привык к этому - как к солнцу или дождю; возможно, если бы это прекратилось, возникло бы ощущение, что чего-то не хватает. Потом опять заговорил Андерсон, он был так вежлив, деликатен, тактичен. Когда Тыонг только познакомился с ним, он подумал: наконец-то настоящий Американец с большой буквы высокий, сильный и чистый, с такими светлыми волосами на руках. И Тыонг сразу же подумал, что такой гигант должен выпивать очень много молока. (Одним из первых вопросов, который он почти застенчиво задал Андерсону на третий день их знакомства, было: правда, ли, что в Америке можно пить сколько угодно молока? Они почти час обсуждали американские завтраки и молоко, и это был один из самых приятных их разговоров). Теперь Андерсон продолжал говорить о засаде и о погибших, не делая различия между убитыми вьетнамцами и убитыми американцами, и это сердило Тыонга, который считал это лицемерием - не может же он и в самом деле скорбеть о смерти вьетнамцев. Андерсон выразил сожаление о гибели капитана Хо Ван Вьена; капитан, как выяснилось, относился к тем вьетнамским офицерам, которых Андерсон почти не знал и хотел бы узнать поближе.
- Если бы вы познакомились с капитаном Хо Ван Вьеном поближе, то узнали бы, как это знал я, его солдаты и ваш высокий негритянский друг, что капитан Вьен был merde [Merde - дерьмо (фр.)]. Это французское слово тут подходит больше всего. Его не интересовали ни люди, которые с ним служили, ни сама война, и он не заботился о своих солдатах. Если вьетконговцы и убили его, то, наверно, случайно. Мне очень жаль, что я вынужден так отозваться в беседе с американцем о моем соотечественнике, и тем более умершем. Надеюсь, вы меня извините.
Тыонг увидел на лице Андерсона спокойное удивление и понял, что напряженность между ними возникла по его вине.
Андерсон, относившийся теперь к Тыонгу более жестко, чем месяц назад, пристально посмотрел на него и сказал:
- Вам виднее, лейтенант Тыонг.
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Он считал Тыонга странным.
Когда он приехал во Вьетнам, его прикрепили к Тыонгу, предупредив, что "Тыонг - хороший офицер, возможно, даже лучший из молодых офицеров, но трудный и не любит длинноносых". Андерсон обрадовался: именно о таком партнере он и мечтал - о хорошем офицере, но трудном. А познакомившись с Тыонгом, он обрадовался еще больше: Тыонг был явно умным и, как вскоре выяснилось, храбрым человеком. Он решил, что нашел именно то, ради чего ехал во Вьетнам, и уже представлял их дружбу, их будущие встречи: Тыонг приедет погостить к нему в Бэннинг, и они, может быть, назовут своих сыновей в честь друг друга.
Через десять дней после их знакомства Андерсон решил пригласить Тыонга пообедать с ним, но не стал торопиться и выждал еще месяц, так как не хотел слишком навязываться Тыонгу. Пригласил он Тыонга непринужденно и по-дружески, давая ему возможность отказаться. Однако приглашение было принято сразу же и без колебаний, хотя с некоторой церемонностью, которая, впрочем, только понравилась Андерсону. Эта церемонность придавала Тыонгу что-то истинно азиатское. Обед прошел странно. Андерсон решил не устраивать его в семинарской столовой, опасаясь, как бы еда не показалась вьетнамцу слишком тяжелой и жирной, и еще он опасался, как бы кто-нибудь не сказал чего-нибудь обидного в адрес азиатов (Бопре мог заговорить о "косоглазых"). Так что они пошли в местный вьетнамо-китайский ресторан, именовавшийся на семинарском жаргоне "Лиловой чумой" не то из-за цвета стен его уборной, не то из-за результатов, к которым приводило его посещение,- никто точно не знал почему. Когда они уже подошли к дверям ресторана, Андерсон вдруг усомнился, правильно ли он сделал,- а вдруг вьетнамцы избегают посещать этот ресторан (как оно и было на самом деле)? Однако Тыонг искусно помешал ему отступить (хотя он уже бывал в этом ресторане с другими американцами и сомневался в политической благонадежности его владельца, который был чрезвычайно любезен с американцами и хорошо говорил по-английски).
Андерсон затеял этот обед, рассчитывая, что Тыонг разговорится и он узнает многое о стране, о войне и о жизни самого Тыонга. Но Тыонг, беспощадно вежливый и учтивый, не говорил ни о собственной жизни, ни о своей стране. И вообще говорил только Андерсон. Правда, это был не совсем монолог: Тыонг задавал ровно столько вопросов, сколько требовалось, чтобы поддержать разговор,- об Америке, Вест-Пойнте, даже о Германии ("Скажите, немецкие солдаты действительно носят каски, которые мы всегда видим на них в кино?"). Вопросы задавались очень вежливо, но у Андерсона иногда возникало ощущение, что он разговаривает с человеком гораздо старше себя, может быть, с чьим-то дедом, который совсем не интересуется темой разговора, но умеет быть любезным собеседником.
Андерсон был совершенно сбит с толку и не понимал, то ли Тыонгу невыносимо скучно, то ли он старается получить как можно больше всяческих сведений. (Иногда сам Андерсон задавал вопросы вроде: "Как по-вашему, помогают вертолеты в ведении войны?"- и получал ответ вроде: "О, лейтенант Андерсон, вы знаете это лучше меня! Вертолеты ведь из вашей страны").
Разумеется, Тыонг, как человек вежливый, в свою очередь пригласил его пообедать вместе, выждав несколько дней. Андерсон был доволен и горд: возможно, их первая встреча прошла лучше, чем ему показалось. Возможно, для сближения с людьми вроде Тыонга нужно лишь время. Тыонг просто застенчив, в этом все дело. И нужно время, чтобы убедить его, что ты не такой, как другие, что ты искренен и не считаешь его косоглазым.
За день до обеда их отряду пришлось неожиданно выдержать один из редких крупных боев. Это была наступательная операция, в которой они сначала проявили нерешительность, а потом позорно провалились. День, ночь и еще один день прошли в страшном, истерическом ожесточении среди страха и смерти - страх передавался от одного к другому, как моровая язва, люди стонали, умирали, кричали на двух языках. Американцы требовали, чтобы этих сукиных детей заставили шевелиться, вьетнамцы снова и снова отвечали, что сейчас не время, что надо дождаться благоприятного момента; американцы говорили: "Нет, сейчас, черт побери, или мы все погибнем в этом вонючем болоте!", а вьетнамцы говорили: "Нет, не сейчас, надо выждать, надо пока укрыться". "Здесь же нет никакого укрытия!"- кричали американцы. И все это на фоне стонов и ужаса. Прошло только сорок восемь часов, и озлобление, горечь этого боя еще были очень остры (даже полковник, этот образец корректности, сказал полковнику Ко, и его слова повторялись вновь и вновь с облегчением и злорадством, ибо наконец у кого-то хватило духа высказаться прямо: "Если вам понадобится вертолет, полковник Ко, сообщите мне. Только сообщите мне!").
Тыонг пришел точно, минута в минуту. Андерсон был почти уверен, что Тыонг отложит обед, но Тыонг как будто был даже доволен, словно он нарочно приурочил обед к сражению. Андерсон сначала провел его по семинарии и пригласил в бар, где познакомил с другими офицерами,- казалось, можно было видеть, как слова, которые произносили американцы, замерзают на лету. Но чем холоднее были слова, тем учтивее становился Тыонг, он не торопился уходить, нарочно мешкая. Наконец, по настоянию Андерсона они все же ушли, и Тыонг повел его в совсем незнакомую часть Мито, в стороне от торговых кварталов. Они вошли в крошечный ресторанчик, где было всего четыре столика и шесть стульев.
В ресторанчике не было ни меню, ни холодильника, и поэтому в течение вечера хозяин несколько раз посылал своего сына на велосипеде в соседний бар за холодным пивом. Тыонг сказал несколько слов хозяину, который, казалось, был очень горд, что его посетили американский лейтенант и Тыонг. Он был очень опечален: специальность его заведения - креветки, а свежих креветок у него нет. Он, правда, ходил на рынок, но вид креветок, которые там продавали, ему что-то не понравился. Поэтому они ели рыбу под жирным соусом, свинину, нарезанную тонкими ломтиками, и пасту из сушеных креветок, намазанную на стебли сахарного тростника. В общем, обед получился внушительный, хотя хозяин иногда отвлекался, чтобы дать подзатыльник сыну, обнаружив, что пиво на исходе.
Но на этот раз разговор не клеился еще больше. Андерсон целых полчаса говорил обо всем, кроме Вьетнама. В конце концов он упомянул Вьетнам и опять говорил обо всем, кроме недавнего боя. Но Тыонг прервал его:
- А что вы скажете о бое, лейтенант Андерсон?
И Андерсон, бедный вежливый Андерсон, начал подыскивать всякие оправдания и намекать на превосходящую численность противника. Тыонг опять прервал его и сказал:
- Лейтенант Андерсон, вы самый вежливый американец, каких мне доводилось видеть. Вы даже вежливей, чем положено быть вьетнамцам. Когда мы вежливы, мы неискренни, и, вероятно, вы тоже. Вам, кажется, не дан талант убедительно лгать, и вы даже краснеете. Это был страшный бой. Его не назовешь даже снафу.
- Как-как? - переспросил Андерсон.
- Снафу. По-вашему это, кажется, называют бардак.
- Снафу,- повторил Андерсон.
Оба неуверенно рассмеялись.
- К сожалению,- сказал Тыонг.- Это было даже не снафу. Так что на этот раз я буду с вами совершенно откровенен и скажу то, что вы знаете сами: это был позор, и, если бы не ваши американские самолеты и не ваши американские вертолеты, позор был бы еще больше и погибло бы еще несколько сот вьетнамских солдат.
Андерсон сделал робкую попытку возразить.
- Нет-нет, вы учились в Вест-Пойнте, а я не учился в Сен-Сире [Сен-Сир - французская военная академия, основана в 1808г.] - даже во вьетнамском Сен-Сире,- но я знаю, что это был позор, причем, лейтенант, не первый и не последний. Я был бы рад объяснить вам, почему это происходит, и заверить вас, что этого больше не произойдет, но ни то ни другое не в моих силах.
Андерсон перебил его и сказал, что теперь положение меняется к лучшему, укрепляется дисциплина, появились вертолеты, но Тыонг только посмотрел на него и улыбнулся доброй, дружеской улыбкой, какая редко бывала на его лице.
- Вы, американцы, пришли спасать нас.
- Не спасать, а помогать,- сказал Андерсон.
- Нет, спасать. Это более точное слово. Только я боюсь, лейтенант, что таких людей, как мы, спасать нелегко.
На этот раз Андерсон промолчал, и Тыонг продолжал, понизив голос и полузакрыв глаза, точно разговаривая сам с собой:
- Мы даже сами не можем себя спасти. И это самое скверное. Мы не можем себя спасти. Я очень сожалею.
Несколько минут они ели молча, потом Тыонг, словно вдруг спохватившись, заговорил о себе и стал хвалить Андерсона: он хороший солдат, отличный офицер, и, если бы он, Тыонг, был полковником, он гордился бы таким молодым офицером, и, конечно, его еще ждут другие задания и другие страны, где люди лучше оценят его помощь, но и Вьетнам его многому учит, больше, чем он думает, и то, что он здесь испытает - даже трудности и разочарования,- пойдет ему на пользу. Когда-нибудь в другой стране его спросят, где он служил раньше, и он ответит, что во Вьетнаме. "В таком случае,- скажут ему,- вы не только храбрый, но и терпеливый человек".
В тот вечер они впервые за время знакомства расстались друзьями. Тыонг очень жалел, что им не удалось поесть свежих креветок, и обещал пойти с ним в этот ресторан еще раз, когда будут хорошие креветки.
Но это обещание так и не было выполнено. Два дня спустя, когда они снова отправились на операцию, Тыонг держался с ним мягче и предупредительней прежнего, но снова замкнулся в себе. От возникшей было непринужденности не осталось и следа, а с ней и от всего, что казалось, она принесла с собой. Тыонг словно устыдился своей слабости и снова отступил за стену гордости. Именно то, что Андерсон был прекрасным офицером, как раз и вызывало в нем холодность и отчужденность. Он понимал это яснее, чем Андерсон, понимал, что, будь Андерсон посредственным офицером, будь он похож на Рейнуотера, и то, может быть, он, Тыонг, относился бы к нему лучше. И если бы Андерсон не был так любезен, так неизменно вежлив, он относился бы к нему более дружелюбно. Вот почему они по-прежнему оставались просто коллегами, союзниками, которые стесняются друг друга, и Андерсон упорно пытался улучшить их отношения. Но чем больше он старался, тем отчужденнее казался Тыонг, и в конце концов Андерсон не вы держивал: отходил от него, бывал холоден и даже груб. Когда это случалось, Тыонг вдруг на какое-то время смягчался. Лишь на этой поздней стадии их отношений Андерсон начал понимать, что происходит, но он был не способен вести себя иначе. Его с раннего детства учили держаться с людьми именно так, особенно с теми, кто устроен в жизни хуже его. Даже для пользы дела, даже во имя профессионализма, которого он так добивался и так сильно желал, Андерсон не мог изменить принципам, ставшим за двадцать пять лет частью его натуры. Цена была слишком высокой. Он был готов отдать свою жизнь, воюя тут, но он не мог преодолеть эту свою слабость. Он не мог обращаться как сволочь с желтокожим человеком в бедной стране. А поэтому время от времени - главным образом из-за того, что он ничего не мог тут поделать,- Андерсон начинал сердиться, и Тыонг становился мягче, но, как правило, он действовал добротой и, когда проигрывал, не утрачивал этой доброты.
Так они и остались чужими друг другу, несмотря на кажущееся сближение. У них не было расхождений относительно войны, они достаточно уважали храбрость друг друга, и за все время у них произошла только одна серьезная стычка. Это случилось на четвертом месяце пребывания Андерсона в стране, в убийственно жаркий день, когда солдаты падали без сознания. Они прошли через две деревни, до того опаленные и опустелые, что казалось, будто солнце выжгло из них всю жизнь. Третья деревня выглядела такой же; в ней оставалось лишь несколько женщин, но и тех словно сожгла жара. Андерсон, не в силах двигаться дальше, растянулся в тени дерева и погрузился в оцепенение, граничившее со сном. Его разбудил шум, доносившийся откуда-то из глубины деревни, но шум тут же стих. Однако вскоре этот шум уже опять отдавался в его ушах, как назойливый звон будильника, который нет сил прервать. В конце концов Андерсон начал прислушиваться. Сначала он различил пронзительный, хихикающий голос мужчины, а потом тонкий и резкий визг женщины; потом - явно мужской голос, не такой пронзительный, но с еще более заметными хихикающими нотками; потом - тонкий женский визг, становившийся все более громким и сердитым; потом - опять мужской голос, теперь уже не пронзительный, и сменивший хихиканье смех; потом - другой смех, еще и еще; и наконец - опять женский голос, разразившийся истеричными воплями, которые нарастали, как вой сирены.
Он был до того заинтригован, что поднялся на ноги, несмотря на жару, и поплелся в направлении голосов. Он увидел пять женщин и человек пятнадцать солдат, которые громко спорили и кричали. Солдаты держали в руках уток, а женщины наскакивали на них. Одна ухватилась за шею утки и тянула к себе, то и дело пиная солдата ногой, но с близкого расстояния, так как отойти подальше не позволяла короткая шея птицы, а солдат после каждого пинка разражался хохотом. Андерсон несколько минут наблюдал эту сцену как завороженный, и все ее подробности одна за другой (в руках солдат были не только утки, но и куры) запечатлевались в его сознании, и это было не что-то случайное - не просто одна женщина, одна утка, один солдат,- казалось, вся его рота грабила эту деревню, эту маленькую деревушку (ну сколько там у них уток?). Массовое мародерство, не более и не менее, и Андерсон пришел в ярость, не зная, что ничего, возможно, не случилось бы, если бы женщины не отказали солдатам в воде, это была ошибка, которую они никогда больше не повторят, даже в самый жаркий день. Андерсон с возрастающим гневом смотрел, как солдаты смеются и дразнят женщин. "Давайте бросим уток и заберем этих молоденьких девочек",- сказал один из них. Другой, заметив Андерсона и не желая обделить его (в общем, солдаты неплохо относились к американским советникам), подошел и протянул ему одну из двух своих уток с заговорщицкой улыбкой, говорившей, что они в этом заодно, а уток хватит на всех. Андерсон сердито отказался от утки и пошел искать Тыонга.
Тыонг находился в дальнем конце деревни - случай необычный, так как при нормальных обстоятельствах он выбирал такое место, откуда было легче наблюдать за всем отрядом. Только на следующий день Андерсону пришло в голову, что это было не случайно: Тыонг почувствовал приближение чего-то и не захотел оказаться причастным к тому, что должно было произойти. Тыонг встретил его приветливо и подвинулся, освобождая для него место. Он вспомнил, как Андерсон еще рано утром предсказывал такую жару, а вот он, Тыонг, ее не предвидел. Он вспомнил, как в детстве в такую жару ему иногда удавалось прокатиться на буйволе. Тогда он любил буйволов и совсем не боялся кататься на них, а вот теперь, когда он стал старше и сильнее, он их боится. Тыонг все говорил, Андерсон попытался было вставить слово, но обычная вежливость не позволила ему перебить собеседника, так что Тыонг продолжал рассказывать. Ах, буйволы, буйволы! Когда он был малышом, они казались такими большими! Маленькому человечку и в голову не приходило, что такие великаны могут быть глупыми. Но теперь он знает, что дело не в величине, и знает, как глупы эти животные. Андерсон, сбитый с толку этой разговорчивостью Тыонга, обычно такого сдержанного, наконец выпалил, что между солдатами и жителями деревни началась драка. Тыонг удивился. Его солдаты? Его солдаты никогда не воруют. Но Андерсон стоял на своем со всем добротным американским упорством: он видел сам - не меньше двадцати уток и кур. Тыонг улыбнулся, на этот раз с легкой снисходительностью. Это невозможно, в такой деревушке вообще не наберется столько уток. Но, сказал Андерсон, он же видел это своими глазами.
- О, вы разыгрываете меня,- сказал Тыонг.- Не надо разыгрывать вьетнамского офицера в жаркий день.
Но Андерсон не отступал - они держали уток за шеи, он сам это видел.
Наконец Тыонг, раздраженный, досадливо хмурясь, после небольшой паузы спросил у Андерсона, сколько раз в месяц ему выдают жалованье. Один раз, сказал Андерсон. По каким числам, все с тем же наивным видом осведомился Тыонг. Первого числа каждого месяца. Как интересно, сказал Тыонг. Все армии одинаковы, не так ли? Представьте, во Вьетнаме то же самое, только чеков здесь, конечно, не выдают. Даже офицерам. Пусть лейтенант извинит его, но случаи, подобные сегодняшнему, бывали и прежде. Конечно, это непорядок, так в армии быть не должно. Он, Тыонг, и сам это понимает, но что поделаешь? Вьетнам - бедная страна, и в этом вся беда: солдатам ничего не заплатили, а сегодня уже пятое число. Разумеется, они могут жаловаться президенту, но это неразумно. Вот они и промышляют - платят себе жалованье сами. Следовательно, кур они не воруют, сказал Тыонг.
- Я, право, ничего не могу сделать,- сказал он.- Хотя мне очень жаль жителей этой деревни.
При иных обстоятельствах Андерсон смирился бы, как мирился со всем остальным. Но он был зол, ожесточен, а жара действовала и на его нервы.
- Конечно,- сказал он.- Конечно, это так. И я очень тронут тем, как вы мне все объяснили. Теперь я понимаю. Но почему вы не боретесь? Боритесь с Сайгоном. Боритесь с Ко. Но оставьте в покое этих бедняков, черт побери. Почему вы не призовете к порядку своих солдат, лейтенант?
- Я рад, что вы заботитесь о моем народе больше меня, лейтенант.
- А мне жаль!
На этом они разошлись, но след остался - очень глубокий.
***
Тыонг чувствовал, что операцию выдали врагу. Тут у него было больше опыта, чем у американцев. Это уже случалось с ним в этой войне, и в первый раз он возмущался и негодовал, но теперь он испытывал больше усталости, чем злости. Такова цена войны вьетнамцев против вьетнамцев. Ведь тут люди, сражающиеся друг с другом, совсем одинаковы, даже вьетнамцы не способны их различать. А по выражению глаз человека невозможно угадать, на чьей он стороне,- и, что еще хуже, он, Тыонг, утратил нравственное чутье; к тому же невозможно сказать, чья цель выше и чей долг благороднее. Все это как-то стерлось и смешалось. Когда он был моложе и это случилось впервые, его охватил гнев: ведь выдали противнику не только его, но и его товарищей и его солдат. Он вернулся и пошел в штаб, исполненный возмущения, как обвинитель, входящий в зал суда. У него были факты, доводы, подозрения и не было сомнений. Он подозревал заместителя начальника отдела планирования. Ведь именно он указал на этот район и первым предложил провести там операцию. Ведь он угрюм и относится к войне без энтузиазма. Ведь его обошли с повышением, и, значит, он обижен. И вот Тыонг в конфиденциальном порядке высказал свои предположения, забыв, что качества, которые он считал подозрительными, были присущи ему самому и именно они вредили его собственной карьере. Гнев превратил его в такого же, как все эти. А потом произошел просчет, и по намеку одного из агентов правительства был случайно обнаружен настоящий предатель - молодой офицер службы тыла, образцовый офицер, отпрыск влиятельной католической семьи, усердный, но без назойливости, в меру вежливый со всеми, и даже с Тыонгом, в котором было что-то от бунтовщика. Идеальный агент - совсем такой, как надо, безупречный внешне и непохожий только внутри, непохожий ненавистью ко всему, что он видел и знал с детства. Его разоблачили и убрали, а офицер, с которым Тыонг поделился своими подозрениями, спросил его, по-прежнему ли он считает себя прирожденным контрразведчиком, а потом некоторое время называл его не иначе как monsieur Deuxieme Bureau [Monsieur Deuxieme Bureau - господин Второе Бюро (фр.), т.е. сотрудник французской контрразведки].
Этот случай потряс Тыонга; с тех пор он уже не высказывал своих подозрений, не имея доказательств, и, главное, научился не доверять никому. Наибольшее недоверие вызывали у него операции вроде этой,- операции, которые планировались совместно с властями провинций. Он считал, что губернаторы провинций ленивы и не интересуются своими подчиненными. Немного лести - и молодой офицер до конца жизни обеспечивает себе теплое местечко. Далее, если операция кончалась скверно, как, возможно, окончится и сегодняшняя, командованию дивизии бывало очень трудно оказывать давление на губернатора провинции. Что бы ни случилось сегодня, губернатор будет защищать и выгораживать своих. Он смотрит на дивизию как на врага и, конечно, не позволит, чтобы на его репутацию упала тень. А потому он позвонит в канцелярию президента (уж что-что, а связь между провинцией и канцелярией президента действовала всегда безотказно), доложит о случившемся, и еще до вечера Ко вызовут к телефону, и в резкой форме ему будет предложено не вмешиваться в дела провинции - его дело вести войну, а не заниматься политикой.
Когда он приехал во Вьетнам, его прикрепили к Тыонгу, предупредив, что "Тыонг - хороший офицер, возможно, даже лучший из молодых офицеров, но трудный и не любит длинноносых". Андерсон обрадовался: именно о таком партнере он и мечтал - о хорошем офицере, но трудном. А познакомившись с Тыонгом, он обрадовался еще больше: Тыонг был явно умным и, как вскоре выяснилось, храбрым человеком. Он решил, что нашел именно то, ради чего ехал во Вьетнам, и уже представлял их дружбу, их будущие встречи: Тыонг приедет погостить к нему в Бэннинг, и они, может быть, назовут своих сыновей в честь друг друга.
Через десять дней после их знакомства Андерсон решил пригласить Тыонга пообедать с ним, но не стал торопиться и выждал еще месяц, так как не хотел слишком навязываться Тыонгу. Пригласил он Тыонга непринужденно и по-дружески, давая ему возможность отказаться. Однако приглашение было принято сразу же и без колебаний, хотя с некоторой церемонностью, которая, впрочем, только понравилась Андерсону. Эта церемонность придавала Тыонгу что-то истинно азиатское. Обед прошел странно. Андерсон решил не устраивать его в семинарской столовой, опасаясь, как бы еда не показалась вьетнамцу слишком тяжелой и жирной, и еще он опасался, как бы кто-нибудь не сказал чего-нибудь обидного в адрес азиатов (Бопре мог заговорить о "косоглазых"). Так что они пошли в местный вьетнамо-китайский ресторан, именовавшийся на семинарском жаргоне "Лиловой чумой" не то из-за цвета стен его уборной, не то из-за результатов, к которым приводило его посещение,- никто точно не знал почему. Когда они уже подошли к дверям ресторана, Андерсон вдруг усомнился, правильно ли он сделал,- а вдруг вьетнамцы избегают посещать этот ресторан (как оно и было на самом деле)? Однако Тыонг искусно помешал ему отступить (хотя он уже бывал в этом ресторане с другими американцами и сомневался в политической благонадежности его владельца, который был чрезвычайно любезен с американцами и хорошо говорил по-английски).
Андерсон затеял этот обед, рассчитывая, что Тыонг разговорится и он узнает многое о стране, о войне и о жизни самого Тыонга. Но Тыонг, беспощадно вежливый и учтивый, не говорил ни о собственной жизни, ни о своей стране. И вообще говорил только Андерсон. Правда, это был не совсем монолог: Тыонг задавал ровно столько вопросов, сколько требовалось, чтобы поддержать разговор,- об Америке, Вест-Пойнте, даже о Германии ("Скажите, немецкие солдаты действительно носят каски, которые мы всегда видим на них в кино?"). Вопросы задавались очень вежливо, но у Андерсона иногда возникало ощущение, что он разговаривает с человеком гораздо старше себя, может быть, с чьим-то дедом, который совсем не интересуется темой разговора, но умеет быть любезным собеседником.
Андерсон был совершенно сбит с толку и не понимал, то ли Тыонгу невыносимо скучно, то ли он старается получить как можно больше всяческих сведений. (Иногда сам Андерсон задавал вопросы вроде: "Как по-вашему, помогают вертолеты в ведении войны?"- и получал ответ вроде: "О, лейтенант Андерсон, вы знаете это лучше меня! Вертолеты ведь из вашей страны").
Разумеется, Тыонг, как человек вежливый, в свою очередь пригласил его пообедать вместе, выждав несколько дней. Андерсон был доволен и горд: возможно, их первая встреча прошла лучше, чем ему показалось. Возможно, для сближения с людьми вроде Тыонга нужно лишь время. Тыонг просто застенчив, в этом все дело. И нужно время, чтобы убедить его, что ты не такой, как другие, что ты искренен и не считаешь его косоглазым.
За день до обеда их отряду пришлось неожиданно выдержать один из редких крупных боев. Это была наступательная операция, в которой они сначала проявили нерешительность, а потом позорно провалились. День, ночь и еще один день прошли в страшном, истерическом ожесточении среди страха и смерти - страх передавался от одного к другому, как моровая язва, люди стонали, умирали, кричали на двух языках. Американцы требовали, чтобы этих сукиных детей заставили шевелиться, вьетнамцы снова и снова отвечали, что сейчас не время, что надо дождаться благоприятного момента; американцы говорили: "Нет, сейчас, черт побери, или мы все погибнем в этом вонючем болоте!", а вьетнамцы говорили: "Нет, не сейчас, надо выждать, надо пока укрыться". "Здесь же нет никакого укрытия!"- кричали американцы. И все это на фоне стонов и ужаса. Прошло только сорок восемь часов, и озлобление, горечь этого боя еще были очень остры (даже полковник, этот образец корректности, сказал полковнику Ко, и его слова повторялись вновь и вновь с облегчением и злорадством, ибо наконец у кого-то хватило духа высказаться прямо: "Если вам понадобится вертолет, полковник Ко, сообщите мне. Только сообщите мне!").
Тыонг пришел точно, минута в минуту. Андерсон был почти уверен, что Тыонг отложит обед, но Тыонг как будто был даже доволен, словно он нарочно приурочил обед к сражению. Андерсон сначала провел его по семинарии и пригласил в бар, где познакомил с другими офицерами,- казалось, можно было видеть, как слова, которые произносили американцы, замерзают на лету. Но чем холоднее были слова, тем учтивее становился Тыонг, он не торопился уходить, нарочно мешкая. Наконец, по настоянию Андерсона они все же ушли, и Тыонг повел его в совсем незнакомую часть Мито, в стороне от торговых кварталов. Они вошли в крошечный ресторанчик, где было всего четыре столика и шесть стульев.
В ресторанчике не было ни меню, ни холодильника, и поэтому в течение вечера хозяин несколько раз посылал своего сына на велосипеде в соседний бар за холодным пивом. Тыонг сказал несколько слов хозяину, который, казалось, был очень горд, что его посетили американский лейтенант и Тыонг. Он был очень опечален: специальность его заведения - креветки, а свежих креветок у него нет. Он, правда, ходил на рынок, но вид креветок, которые там продавали, ему что-то не понравился. Поэтому они ели рыбу под жирным соусом, свинину, нарезанную тонкими ломтиками, и пасту из сушеных креветок, намазанную на стебли сахарного тростника. В общем, обед получился внушительный, хотя хозяин иногда отвлекался, чтобы дать подзатыльник сыну, обнаружив, что пиво на исходе.
Но на этот раз разговор не клеился еще больше. Андерсон целых полчаса говорил обо всем, кроме Вьетнама. В конце концов он упомянул Вьетнам и опять говорил обо всем, кроме недавнего боя. Но Тыонг прервал его:
- А что вы скажете о бое, лейтенант Андерсон?
И Андерсон, бедный вежливый Андерсон, начал подыскивать всякие оправдания и намекать на превосходящую численность противника. Тыонг опять прервал его и сказал:
- Лейтенант Андерсон, вы самый вежливый американец, каких мне доводилось видеть. Вы даже вежливей, чем положено быть вьетнамцам. Когда мы вежливы, мы неискренни, и, вероятно, вы тоже. Вам, кажется, не дан талант убедительно лгать, и вы даже краснеете. Это был страшный бой. Его не назовешь даже снафу.
- Как-как? - переспросил Андерсон.
- Снафу. По-вашему это, кажется, называют бардак.
- Снафу,- повторил Андерсон.
Оба неуверенно рассмеялись.
- К сожалению,- сказал Тыонг.- Это было даже не снафу. Так что на этот раз я буду с вами совершенно откровенен и скажу то, что вы знаете сами: это был позор, и, если бы не ваши американские самолеты и не ваши американские вертолеты, позор был бы еще больше и погибло бы еще несколько сот вьетнамских солдат.
Андерсон сделал робкую попытку возразить.
- Нет-нет, вы учились в Вест-Пойнте, а я не учился в Сен-Сире [Сен-Сир - французская военная академия, основана в 1808г.] - даже во вьетнамском Сен-Сире,- но я знаю, что это был позор, причем, лейтенант, не первый и не последний. Я был бы рад объяснить вам, почему это происходит, и заверить вас, что этого больше не произойдет, но ни то ни другое не в моих силах.
Андерсон перебил его и сказал, что теперь положение меняется к лучшему, укрепляется дисциплина, появились вертолеты, но Тыонг только посмотрел на него и улыбнулся доброй, дружеской улыбкой, какая редко бывала на его лице.
- Вы, американцы, пришли спасать нас.
- Не спасать, а помогать,- сказал Андерсон.
- Нет, спасать. Это более точное слово. Только я боюсь, лейтенант, что таких людей, как мы, спасать нелегко.
На этот раз Андерсон промолчал, и Тыонг продолжал, понизив голос и полузакрыв глаза, точно разговаривая сам с собой:
- Мы даже сами не можем себя спасти. И это самое скверное. Мы не можем себя спасти. Я очень сожалею.
Несколько минут они ели молча, потом Тыонг, словно вдруг спохватившись, заговорил о себе и стал хвалить Андерсона: он хороший солдат, отличный офицер, и, если бы он, Тыонг, был полковником, он гордился бы таким молодым офицером, и, конечно, его еще ждут другие задания и другие страны, где люди лучше оценят его помощь, но и Вьетнам его многому учит, больше, чем он думает, и то, что он здесь испытает - даже трудности и разочарования,- пойдет ему на пользу. Когда-нибудь в другой стране его спросят, где он служил раньше, и он ответит, что во Вьетнаме. "В таком случае,- скажут ему,- вы не только храбрый, но и терпеливый человек".
В тот вечер они впервые за время знакомства расстались друзьями. Тыонг очень жалел, что им не удалось поесть свежих креветок, и обещал пойти с ним в этот ресторан еще раз, когда будут хорошие креветки.
Но это обещание так и не было выполнено. Два дня спустя, когда они снова отправились на операцию, Тыонг держался с ним мягче и предупредительней прежнего, но снова замкнулся в себе. От возникшей было непринужденности не осталось и следа, а с ней и от всего, что казалось, она принесла с собой. Тыонг словно устыдился своей слабости и снова отступил за стену гордости. Именно то, что Андерсон был прекрасным офицером, как раз и вызывало в нем холодность и отчужденность. Он понимал это яснее, чем Андерсон, понимал, что, будь Андерсон посредственным офицером, будь он похож на Рейнуотера, и то, может быть, он, Тыонг, относился бы к нему лучше. И если бы Андерсон не был так любезен, так неизменно вежлив, он относился бы к нему более дружелюбно. Вот почему они по-прежнему оставались просто коллегами, союзниками, которые стесняются друг друга, и Андерсон упорно пытался улучшить их отношения. Но чем больше он старался, тем отчужденнее казался Тыонг, и в конце концов Андерсон не вы держивал: отходил от него, бывал холоден и даже груб. Когда это случалось, Тыонг вдруг на какое-то время смягчался. Лишь на этой поздней стадии их отношений Андерсон начал понимать, что происходит, но он был не способен вести себя иначе. Его с раннего детства учили держаться с людьми именно так, особенно с теми, кто устроен в жизни хуже его. Даже для пользы дела, даже во имя профессионализма, которого он так добивался и так сильно желал, Андерсон не мог изменить принципам, ставшим за двадцать пять лет частью его натуры. Цена была слишком высокой. Он был готов отдать свою жизнь, воюя тут, но он не мог преодолеть эту свою слабость. Он не мог обращаться как сволочь с желтокожим человеком в бедной стране. А поэтому время от времени - главным образом из-за того, что он ничего не мог тут поделать,- Андерсон начинал сердиться, и Тыонг становился мягче, но, как правило, он действовал добротой и, когда проигрывал, не утрачивал этой доброты.
Так они и остались чужими друг другу, несмотря на кажущееся сближение. У них не было расхождений относительно войны, они достаточно уважали храбрость друг друга, и за все время у них произошла только одна серьезная стычка. Это случилось на четвертом месяце пребывания Андерсона в стране, в убийственно жаркий день, когда солдаты падали без сознания. Они прошли через две деревни, до того опаленные и опустелые, что казалось, будто солнце выжгло из них всю жизнь. Третья деревня выглядела такой же; в ней оставалось лишь несколько женщин, но и тех словно сожгла жара. Андерсон, не в силах двигаться дальше, растянулся в тени дерева и погрузился в оцепенение, граничившее со сном. Его разбудил шум, доносившийся откуда-то из глубины деревни, но шум тут же стих. Однако вскоре этот шум уже опять отдавался в его ушах, как назойливый звон будильника, который нет сил прервать. В конце концов Андерсон начал прислушиваться. Сначала он различил пронзительный, хихикающий голос мужчины, а потом тонкий и резкий визг женщины; потом - явно мужской голос, не такой пронзительный, но с еще более заметными хихикающими нотками; потом - тонкий женский визг, становившийся все более громким и сердитым; потом - опять мужской голос, теперь уже не пронзительный, и сменивший хихиканье смех; потом - другой смех, еще и еще; и наконец - опять женский голос, разразившийся истеричными воплями, которые нарастали, как вой сирены.
Он был до того заинтригован, что поднялся на ноги, несмотря на жару, и поплелся в направлении голосов. Он увидел пять женщин и человек пятнадцать солдат, которые громко спорили и кричали. Солдаты держали в руках уток, а женщины наскакивали на них. Одна ухватилась за шею утки и тянула к себе, то и дело пиная солдата ногой, но с близкого расстояния, так как отойти подальше не позволяла короткая шея птицы, а солдат после каждого пинка разражался хохотом. Андерсон несколько минут наблюдал эту сцену как завороженный, и все ее подробности одна за другой (в руках солдат были не только утки, но и куры) запечатлевались в его сознании, и это было не что-то случайное - не просто одна женщина, одна утка, один солдат,- казалось, вся его рота грабила эту деревню, эту маленькую деревушку (ну сколько там у них уток?). Массовое мародерство, не более и не менее, и Андерсон пришел в ярость, не зная, что ничего, возможно, не случилось бы, если бы женщины не отказали солдатам в воде, это была ошибка, которую они никогда больше не повторят, даже в самый жаркий день. Андерсон с возрастающим гневом смотрел, как солдаты смеются и дразнят женщин. "Давайте бросим уток и заберем этих молоденьких девочек",- сказал один из них. Другой, заметив Андерсона и не желая обделить его (в общем, солдаты неплохо относились к американским советникам), подошел и протянул ему одну из двух своих уток с заговорщицкой улыбкой, говорившей, что они в этом заодно, а уток хватит на всех. Андерсон сердито отказался от утки и пошел искать Тыонга.
Тыонг находился в дальнем конце деревни - случай необычный, так как при нормальных обстоятельствах он выбирал такое место, откуда было легче наблюдать за всем отрядом. Только на следующий день Андерсону пришло в голову, что это было не случайно: Тыонг почувствовал приближение чего-то и не захотел оказаться причастным к тому, что должно было произойти. Тыонг встретил его приветливо и подвинулся, освобождая для него место. Он вспомнил, как Андерсон еще рано утром предсказывал такую жару, а вот он, Тыонг, ее не предвидел. Он вспомнил, как в детстве в такую жару ему иногда удавалось прокатиться на буйволе. Тогда он любил буйволов и совсем не боялся кататься на них, а вот теперь, когда он стал старше и сильнее, он их боится. Тыонг все говорил, Андерсон попытался было вставить слово, но обычная вежливость не позволила ему перебить собеседника, так что Тыонг продолжал рассказывать. Ах, буйволы, буйволы! Когда он был малышом, они казались такими большими! Маленькому человечку и в голову не приходило, что такие великаны могут быть глупыми. Но теперь он знает, что дело не в величине, и знает, как глупы эти животные. Андерсон, сбитый с толку этой разговорчивостью Тыонга, обычно такого сдержанного, наконец выпалил, что между солдатами и жителями деревни началась драка. Тыонг удивился. Его солдаты? Его солдаты никогда не воруют. Но Андерсон стоял на своем со всем добротным американским упорством: он видел сам - не меньше двадцати уток и кур. Тыонг улыбнулся, на этот раз с легкой снисходительностью. Это невозможно, в такой деревушке вообще не наберется столько уток. Но, сказал Андерсон, он же видел это своими глазами.
- О, вы разыгрываете меня,- сказал Тыонг.- Не надо разыгрывать вьетнамского офицера в жаркий день.
Но Андерсон не отступал - они держали уток за шеи, он сам это видел.
Наконец Тыонг, раздраженный, досадливо хмурясь, после небольшой паузы спросил у Андерсона, сколько раз в месяц ему выдают жалованье. Один раз, сказал Андерсон. По каким числам, все с тем же наивным видом осведомился Тыонг. Первого числа каждого месяца. Как интересно, сказал Тыонг. Все армии одинаковы, не так ли? Представьте, во Вьетнаме то же самое, только чеков здесь, конечно, не выдают. Даже офицерам. Пусть лейтенант извинит его, но случаи, подобные сегодняшнему, бывали и прежде. Конечно, это непорядок, так в армии быть не должно. Он, Тыонг, и сам это понимает, но что поделаешь? Вьетнам - бедная страна, и в этом вся беда: солдатам ничего не заплатили, а сегодня уже пятое число. Разумеется, они могут жаловаться президенту, но это неразумно. Вот они и промышляют - платят себе жалованье сами. Следовательно, кур они не воруют, сказал Тыонг.
- Я, право, ничего не могу сделать,- сказал он.- Хотя мне очень жаль жителей этой деревни.
При иных обстоятельствах Андерсон смирился бы, как мирился со всем остальным. Но он был зол, ожесточен, а жара действовала и на его нервы.
- Конечно,- сказал он.- Конечно, это так. И я очень тронут тем, как вы мне все объяснили. Теперь я понимаю. Но почему вы не боретесь? Боритесь с Сайгоном. Боритесь с Ко. Но оставьте в покое этих бедняков, черт побери. Почему вы не призовете к порядку своих солдат, лейтенант?
- Я рад, что вы заботитесь о моем народе больше меня, лейтенант.
- А мне жаль!
На этом они разошлись, но след остался - очень глубокий.
***
Тыонг чувствовал, что операцию выдали врагу. Тут у него было больше опыта, чем у американцев. Это уже случалось с ним в этой войне, и в первый раз он возмущался и негодовал, но теперь он испытывал больше усталости, чем злости. Такова цена войны вьетнамцев против вьетнамцев. Ведь тут люди, сражающиеся друг с другом, совсем одинаковы, даже вьетнамцы не способны их различать. А по выражению глаз человека невозможно угадать, на чьей он стороне,- и, что еще хуже, он, Тыонг, утратил нравственное чутье; к тому же невозможно сказать, чья цель выше и чей долг благороднее. Все это как-то стерлось и смешалось. Когда он был моложе и это случилось впервые, его охватил гнев: ведь выдали противнику не только его, но и его товарищей и его солдат. Он вернулся и пошел в штаб, исполненный возмущения, как обвинитель, входящий в зал суда. У него были факты, доводы, подозрения и не было сомнений. Он подозревал заместителя начальника отдела планирования. Ведь именно он указал на этот район и первым предложил провести там операцию. Ведь он угрюм и относится к войне без энтузиазма. Ведь его обошли с повышением, и, значит, он обижен. И вот Тыонг в конфиденциальном порядке высказал свои предположения, забыв, что качества, которые он считал подозрительными, были присущи ему самому и именно они вредили его собственной карьере. Гнев превратил его в такого же, как все эти. А потом произошел просчет, и по намеку одного из агентов правительства был случайно обнаружен настоящий предатель - молодой офицер службы тыла, образцовый офицер, отпрыск влиятельной католической семьи, усердный, но без назойливости, в меру вежливый со всеми, и даже с Тыонгом, в котором было что-то от бунтовщика. Идеальный агент - совсем такой, как надо, безупречный внешне и непохожий только внутри, непохожий ненавистью ко всему, что он видел и знал с детства. Его разоблачили и убрали, а офицер, с которым Тыонг поделился своими подозрениями, спросил его, по-прежнему ли он считает себя прирожденным контрразведчиком, а потом некоторое время называл его не иначе как monsieur Deuxieme Bureau [Monsieur Deuxieme Bureau - господин Второе Бюро (фр.), т.е. сотрудник французской контрразведки].
Этот случай потряс Тыонга; с тех пор он уже не высказывал своих подозрений, не имея доказательств, и, главное, научился не доверять никому. Наибольшее недоверие вызывали у него операции вроде этой,- операции, которые планировались совместно с властями провинций. Он считал, что губернаторы провинций ленивы и не интересуются своими подчиненными. Немного лести - и молодой офицер до конца жизни обеспечивает себе теплое местечко. Далее, если операция кончалась скверно, как, возможно, окончится и сегодняшняя, командованию дивизии бывало очень трудно оказывать давление на губернатора провинции. Что бы ни случилось сегодня, губернатор будет защищать и выгораживать своих. Он смотрит на дивизию как на врага и, конечно, не позволит, чтобы на его репутацию упала тень. А потому он позвонит в канцелярию президента (уж что-что, а связь между провинцией и канцелярией президента действовала всегда безотказно), доложит о случившемся, и еще до вечера Ко вызовут к телефону, и в резкой форме ему будет предложено не вмешиваться в дела провинции - его дело вести войну, а не заниматься политикой.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В полдень они остановились на обед возле второй деревни, которая называлась Аптхань. То, что Бопре и Андерсону удалось убедить Данга устраивать привалы на обед вне населенных пунктов, они считали одной из своих скромных побед, иначе обеспечение обеденного меню неизбежно ложилось на плечи деревенских жителей.
Бопре достал два сандвича с ветчиной, нарезанной толстыми ломтями, которые приготовил для него сержант-буфетчик (первое время хлеб всегда к началу обеда успевал сильно отсыреть, поэтому Бопре старался хранить его в самых верхних карманах, но, поскольку это тоже не помогало, он стал заворачивать его в целлофан). Сандвичи были сухие, но казались тяжелыми и неаппетитными, а из-за жары сама мысль о еде вызвала у Бопре отвращение, и он отложил их. Данг стал угощать его рисом. Бопре хотел отказаться, но Данг настаивал: в такую погоду нельзя есть американскую пищу, надо есть только вьетнамскую. Он, Данг, не стал бы есть рис на Севере Америки. Тогда Бопре из вежливости съел немного риса и потом взял еще. Затем Данг предложил ему бульон, он выпил чашку и слегка ожил.
- До своего отъезда наш американский воин Бопре успеет стать хорошим вьетнамским солдатом,- сказал Данг, и Бопре улыбнулся и пообещал отправиться с Дангом в Вермонт кататься на лыжах, когда Данг приедет в Америку и они будут есть ветчину, а не рис.
- Капитан Бопре лыжник?- спросил Данг.
- Нет,- ответил Вопре.- Он родом из той части страны, где жарко и где не бывает снега. И ходить на лыжах он не умеет.
- Не умеете? Значит, вы такой же, как вьетнамский капитан. Он тоже не умеет,- сказал Данг.- И вы подшучиваете над капитаном Дангом, ха-ха!
***
Поев, Бопре встал и обошел место привала; тяжелое оружие лежало в беспорядке, охраны почти не было. Конечно, так не воюют, но, с другой стороны, правда и то, что днем вьетконговцы вряд ли нападут на правительственные войска, даже и в обеденное время. Скорее всего, они сидят где-нибудь в укрытии, на тщательно подготовленных позициях и ждут, пока правительственные войска не подойдут к ним сами и не выйдут на открытое место.
Бопре боялся присесть отдохнуть, боялся снова потерять сознание, тогда Андерсон вынужден был бы сообщить об этом на КП. Пришлось просто прислониться к дереву и закурить, забавляясь мыслью о том, как они с Дангом поедут в Вермонт кататься на лыжах и как он скажет, вытаскивая его из сугроба: "О, это мой добрый друг, вьетнамский лыжник капитан Данг! Капитан, вы делаете успехи больше меня, я теряю престиж!"
Тут к нему подошел с рацией Андерсон.
- Сегодня они знают про нас всю подноготную, черт подери,- сказал он.- Только что обстреляли Ролстона и тринадцатый батальон. Всего несколько минут назад. Плохо. Чертовски плохо. Большие потери. Очень большие. Сначала думали, что Ролстон убит, но потом его нашли. Он ранен в ногу. Видимо, вьетконговцы не обратили внимания, решив, что он мертв. Теперь он не переставая бормочет: "Все убиты, все убиты!" Убитых очень много. Больше, чем в первый раз. Та же чертова история. Они шли через рисовое поле. Уже дошли до середины, когда вьетконговцы открыли огонь. Уложили чуть не половину батальона. Перекрестный огонь. Наши засекут один пулемет, и тут же начинает стрелять другой. Проклятые вьетконговцы все знали заранее. Командир батальона Чин убит. Хороший офицер. Он шел в голове колонны и, когда началась стрельба, не растерялся и пошел с группой солдат в обход - и снова впереди, а вьетконговцы и это предвидели: встретили их шквальным огнем. Уложили почти всех. Буквально изрешетили. Атаковали колонну сразу спереди и сзади. Тело Чина разорвало в клочья. Как раз когда его несли, полковник стал кричать, чтобы они послали кого-нибудь в обход, а ему ответили, что уже послали и эта группа уже уничтожена. Он спросил, кто ее вел, ему сказали, что Чин, и это произвело на него сильное впечатление. Дежурный по КП говорит, что положение скверное. Один санитарный вертолет сел там, а второй обстреляли. Три члена экипажа погибли, а ребята во втором злы как черти. Кричат, что все было подстроено заранее. Дежурный говорит, что еще ни разу не слышал, чтобы вертолетчики так бушевали. Дежурный говорит, что туда перебрасывают резерв, хотя Ко этого не хотел, и вьетнамцы до того нервничают, что высадили резерв подальше от опушки, где их обстрелять не могут, и теперь им добираться до джунглей не меньше часа. Говорит, что полковник в бешенстве и к тому же напуган. Говорит, первый раз видит, что полковник испугался. Скверный день. По его мнению, даже полковник примирился с тем, что послали подкрепление.
- Что полковник думает обо всем этом?- спросил Бопре дежурного.
- Обстановка ему очень не нравится. Они сейчас решают, не прекратить ли операцию, чтобы просто забрать вас отсюда - и дело с концом. Но мне кажется, он боится предложить это нашим друзьям, потому что друзья подумают, что мы струсили. Так что, скорее всего, вам придется топать дальше. Он сожалеет и просит передать привет нашим друзьям.
То, что произошло с группой, двинутой в обход, рассеяло последние сомнения Бопре. Слишком уж хорошо, слишком профессионально все было организовано. У него возникло жуткое ощущение, что вьетконговцы играют с ним как кошка с мышью. Он увидел себя пятнышком на экране чьего-то радиолокатора: они наблюдали за каждым его движением и поджидали его в удобном для себя месте в удобное для себя время. Он твердо знал, что они идут навстречу засаде. Возможно, вьетконговцы как раз теперь выбирают, стрелять ли ему в голову, грудь или живот, и спорят, что будет лучше. Вьетконговцам план операции известен во всех подробностях. "Да и вообще,- подумал он,- скорее всего, они его и разработали".
Он развернул карту и прикинул, где и когда попали в засаду две другие колонны - в одиннадцать сорок пять и в двенадцать тридцать. Если идти к месту соединения, которое теперь вряд ли может состояться, вдоль канала, как указано в маршруте, то в час пятнадцать они войдут в деревню Аптхань. Он еще раз взглянул на карту и решил, что засада ждет их где-то за деревней. Вьетконговцы не будут спешить, они дадут правительственному отряду войти в деревню и не станут атаковать, пока солдаты насторожены, подтянуты и находятся в боевой готовности, но когда окажется, что вьетконговцев в деревне нет, наступит расслабление, солдаты опять станут беспечными, и тогда за деревней Вьетконг ударит. Бопре протянул Андерсону карту, показывая место, где это может произойти.
- Засада. Будет здесь, у первого же открытого места.
Он показал Андерсону на канал поменьше, проходивший параллельно главному, на расстоянии немногим более четверти мили от него. Необходимо отойти в сторону от главного канала, так как противник - в этом он уверен - ждет их именно там. Конечно, это тоже не выход; в любой другой войне, если знаешь, где тебя ждет засада, можно обойти противника с фланга и застать его врасплох, но здесь такой маневр невозможен - не тот личный состав. Так что единственно реальный выход - избежать соприкосновения с основными силами противника. Надо отходить от основного канала.
Бопре включил рацию и очень медленно, с расстановкой, тщательно выговаривая каждое слово, сказал:
- Передайте полковнику, что мы следуем дальше, как он хотел. Идем, как шли. Передайте, что мне не нравится идея возвращения или обхода.- Помолчав, Бопре повторил медленно и ясно:
- Мы не хотим сворачивать в сторону или прекращать выполнение задачи. Считаем, что для беспокойства нет оснований.
Дежурный офицер, немного растерявшись, сказал, что, конечно, он передаст полковнику, если Бопре действительно этого хочет.
Бопре сказал Андерсону:
- Идите к вашему другу, пусть передаст то же самое по своему радио, слово в слово, и повторит это несколько раз. Добиться того, чтобы он повторил, наверно, будет не так уж трудно. Скажите, что ему не надо говорить с Дангом. Скажите, что Данга я беру на себя.
- Воина Данга?
- Его самого.
Андерсон повернулся, и Бопре сказал ему вслед:
- И посоветуйте вашему вьетнамскому другу проверить их штабных и выяснить, кого они любят на самом деле.
Бопре отправился искать Данга. Отряд уже снова шел, и ему пришлось пробираться сквозь колонну. Солдаты шли скученно и беззаботно болтали, а он думал об открытом поле впереди, где ждет Вьетконг, и о том, как глупо умирать здесь, среди таких вояк, которые со смехом шагают прямо на засаду, как будто это не война, а какая-нибудь увеселительная прогулка. Ему стало страшно. До сих пор эта война слишком часто располагала его к расхлябанности, лени, даже к высокомерию. Он с презрением относился к своим коллегам, к союзникам, к народу, иногда даже к противнику. Это он сказал священнику, что они тут недостаточно напуганы, чтобы молиться. И вот теперь он почувствовал, что это серьезно. Он не хочет умирать, не хочет быть одной из этих смеющихся кеглей.
***
После первой засады Тыонг не испытывал гнева, а только раздражение и, пожалуй, даже скуку из-за Андерсона. В конце концов, ведь когда убивали кого-то из американцев, он, Тыонг, не бежал к Андерсону выражать соболезнования по поводу гибели какого-нибудь сержанта - грузного, дюжего сержанта, который приехал во Вьетнам спать с проститутками. Но после второй засады его охватили гнев и возмущение. Командуя группой, выполнявшей обходный маневр, погиб Чин - один из немногих офицеров дивизии, вызывавших у Тыонга восхищение и доверие, худой, мускулистый меленький северянин, который, казалось, надел форму своего старшего брата, настолько меньше остальных офицеров он был, но волосы он нарочно (Тыонг был в этом уверен) носил очень длинные, потому что остальные стриглись коротко, подражая американцам.
Тыонг шел вместе с солдатами и уговаривал их не дремать: они отоспятся во время следующей операции, а на этот раз он тайно договорился с Вьетконгом о том, что стрелять из засады будут только в лентяев, в тех, кто спит на ходу. Когда отряд приблизился к деревне Аптхань, он приказал передним произвести разведку огнем и развернуться веером, потому что ему надоело таскать на себе с поля боя по пять человек вместо одного,- если они не поостерегутся, он, того и гляди, вывихнет себе спину. Бопре услышал, как приказ Тыонга передавался по колонне, и обрадовался: хотя он и считал, что противника в деревне нет, но вьетконговцы так или иначе услышат выстрелы и решат, что правительственные войска вот-вот попадут в ловушку.
К деревне отряд подходил с оглушительным шумом: стреляли легкие пулеметы, а иногда даже миномет. Андерсон, находившийся в это время в хвосте колонны и вместе с ней свернувший вправо, на открытое поле перед деревней, не понимал, что происходит впереди и почему стреляют. Он не слышал приказа, переданного в голову колонны, и мысленно выругал вьетнамцев за то, что они ничего ему не сообщили. Он был уверен, что они знают что-то, чего не знает он. Он увидел, что солдат перед ним стреляет из автомата, и быстро расстрелял половину обоймы в ближайший куст. Он услышал позади себя стоны и пошел вперед. Чертовски глупо со стороны вьетнамцев не информировать его о происходящем и чертовски типично, думал он. Стрельба была очень интенсивной, но он не мог разобрать, откуда ведут огонь. Обычно он умел угадывать расположение огневых точек противника по вспышкам, но на этот раз он, как ни вглядывался в стену леса, ничего обнаружить не смог и пришел в уныние. Все это напоминало ужасающую грозу, казалось, грохот никогда не прекратится, а будет возрастать и нарастать, но вдруг стало заметно тише, а потом, прежде чем Андерсон осознал, что произошло, наступила полная тишина.
Когда Андерсон добрался до деревни, голова колонны вступила в нее. Солдаты смеялись и шутили, и сначала Андерсон терялся в догадках, но потом понял, что это была рекогносцировка, и рассердился на вьетнамцев, поставивших его в глупое положение. В этой стране ни от кого нельзя добиться толку. Он поглядел на солдат, ожидая увидеть насмешливые улыбки, но затем сообразил, что они и не подозревали о его раздражении и растерянности, и если даже смотрели на него тогда, то думали, что он, как и они, стрелял, а не вел бой, не защищался от пуль. Андерсон почувствовал, что его раздражение проходит, и вспомнил, что вьетнамцы ему нравятся. Он улыбнулся им.
- Сколько людей мы потеряли при взятии этой деревни?- спросил он.- Это была великая битва!- И они засмеялись вместе с ним.
***
Аптхань была крохотной деревушкой, одной из тех, про которые полковник говорил, что найти их можно только на картах Вьетконга. Бопре еще не приходилось видеть здесь таких маленьких деревень: всего несколько хижин, причем как будто давно покинутых. В деревне царила полная тишина - и не по контрасту с недавней пальбой, а настоящая, нерушимая тишина. И Бопре, которому нравилось считать, что все вьетнамцы и все вьетнамские деревни одинаковы, был охвачен непривычным чувством. Он видел в этой стране почти все, но не это.
Он спросил Данга, где же депутация от ликующих жителей, но Данг не уловил шутки и сказал, что в этом виноваты коммунисты Вьетконга.
- Вы считаете, что тут была резня, капитан Данг?- спросил Бопре ему в тон.
- Да,- сказал Данг.- "Резня"- это точное слово. Из ваших фильмов об индейцах.- Он казался весьма довольным собой.
Бопре увидел, что Андерсон заговорил с молодым вьетнамским лейтенантом. "Наверно, спрашивает, куда девались жители деревни",- подумал он и проникся симпатией к вьетнамцам, что случалось с ним редко.
Теперь он чувствовал себя немного лучше и рискнул сесть в тени хижины. Однако и тень не спасала от жары. Наоборот, после того как он остановился, пот полил с него даже еще сильнее. Бопре решил, что, вернувшись с этой операции (если он вернется), он попробует пить меньше. Какой смысл? Он сумеет воздержаться, и пусть кто-нибудь другой уходит последним из бара. Он сидел, перекатывая во рту воду, и очень гордился тем, что не глотает ее.
И тут они обнаружили старика. Много худых и изможденных стариков перевидал Бопре во Вьетнаме, но таких, как этот, еще не встречал. Его белая одежда была очень чистой. "Кем бы ни был этот старый хрыч, но кто-то стирает его одежду",- подумал Бопре. Старика случайно обнаружили в одной из хижин. Эту хижину уже один раз обыскивали, но он был такой худой и неподвижный, что его сначала не заметили. Бопре, услышав это объяснение, счел его правдоподобным. Старика обступили со всех сторон, но обыскивать не стали. Данг решил допросить его сам. Андерсон стоял рядом. Бопре тоже заинтересовался и, подойдя ближе, знаком попросил Андерсона переводить. Данг сказал что-то.
- Данг спрашивает, где все остальные,- шепнул Андерсон.
Взглянув на Данга, старик посмотрел сначала в один конец деревни, потом в другой.
- Все ушли,- ответил он.
Это была констатация факта. С этим нельзя было спорить. И Данг слушал молча. Потом он начал быстро задавать один вопрос за другим: куда ушли, не спрятал ли он их, где противник, помогает ли он противнику.
Старик помолчал. А потом медленно, с гордостью сказал что-то. Бопре заметил удивление на лицах вьетнамцев. Андерсон перевел:
- Он говорит, что никогда не помогал французам, никогда ничего им не говорил.
Все опешили, даже Бопре.
- Вот черт!- пробормотал он.- Что теперь скажет Данг?
Он заметил, что на лице молодого вьетнамского лейтенанта промелькнула улыбка, но солдаты, если им и было смешно, сумели сохранить серьезность, точно старик произнес клятву в верности правительству. Старик опять что-то сказал, и Андерсон перевел:
- Французы заставляли его говорить, но он молчал. Он не дал французам одурачить себя. Данг говорит, что это хорошо, но та война кончилась, французы ушли.
Старик опять заговорил.
- Он говорит, что никогда не помогал им. Есть свидетели, которые могут подтвердить. О его верности знают. Он рад, что французы ушли. Но он спрашивает, зачем мы здесь, если французы ушли. Сейчас Данг говорит, что есть новый враг, даже хуже французов. Старик спрашивает, говорят ли эти враги на чужом языке, как французы. Данг злится. Он заявил, что они говорят на непонятных, чужих языках. Старик говорит, что в таком случае он им тоже не станет помогать, что он никогда не помогал французам: они приходили и задавали ему много вопросов, а он им все врал. ("Вот этому я верю,- заметил Бопре.- В первый раз за весь день я чему-то поверил"). Когда французы пришли опять, он послал их в такое место, где находились солдаты, похожие на нас, и эти солдаты убили несколько французов. На следующий день французы снова пришли и убили много людей, в том числе его жену и сына. Сам он спрятался, иначе его бы тоже убили. После всего этого он, конечно, не станет им помогать, он очень рад, что они ушли, ему никогда не нравился их язык. Судя по всему, старику не очень-то нравится Данг. Он только что спросил Данга, воевал ли он с французами. Данг ответил, что конечно. Все воевали.
Внезапно, может быть из-за последнего вопроса, Данг оборвал разговор. Но теперь уже хотел говорить старик: он рад приветствовать таких людей, как Данг, и Данг должен оказать ему честь и выпить с ним чаю. Данг досадливо отказался, заявив, что его еще ждут дела.
- А,- сказал старик,- надо убивать новых врагов, которые говорят на чужом языке.
Он как будто подмигнул Дангу, а Данг сказал: да, именно так, а чаю они выпьют, когда придут в следующий раз.
Бопре этот диалог сначала забавлял, но теперь он встревожился, опасаясь, что Данг будет испытывать неловкость и предпочтет не отклоняться от намеченного маршрута.
В полдень они остановились на обед возле второй деревни, которая называлась Аптхань. То, что Бопре и Андерсону удалось убедить Данга устраивать привалы на обед вне населенных пунктов, они считали одной из своих скромных побед, иначе обеспечение обеденного меню неизбежно ложилось на плечи деревенских жителей.
Бопре достал два сандвича с ветчиной, нарезанной толстыми ломтями, которые приготовил для него сержант-буфетчик (первое время хлеб всегда к началу обеда успевал сильно отсыреть, поэтому Бопре старался хранить его в самых верхних карманах, но, поскольку это тоже не помогало, он стал заворачивать его в целлофан). Сандвичи были сухие, но казались тяжелыми и неаппетитными, а из-за жары сама мысль о еде вызвала у Бопре отвращение, и он отложил их. Данг стал угощать его рисом. Бопре хотел отказаться, но Данг настаивал: в такую погоду нельзя есть американскую пищу, надо есть только вьетнамскую. Он, Данг, не стал бы есть рис на Севере Америки. Тогда Бопре из вежливости съел немного риса и потом взял еще. Затем Данг предложил ему бульон, он выпил чашку и слегка ожил.
- До своего отъезда наш американский воин Бопре успеет стать хорошим вьетнамским солдатом,- сказал Данг, и Бопре улыбнулся и пообещал отправиться с Дангом в Вермонт кататься на лыжах, когда Данг приедет в Америку и они будут есть ветчину, а не рис.
- Капитан Бопре лыжник?- спросил Данг.
- Нет,- ответил Вопре.- Он родом из той части страны, где жарко и где не бывает снега. И ходить на лыжах он не умеет.
- Не умеете? Значит, вы такой же, как вьетнамский капитан. Он тоже не умеет,- сказал Данг.- И вы подшучиваете над капитаном Дангом, ха-ха!
***
Поев, Бопре встал и обошел место привала; тяжелое оружие лежало в беспорядке, охраны почти не было. Конечно, так не воюют, но, с другой стороны, правда и то, что днем вьетконговцы вряд ли нападут на правительственные войска, даже и в обеденное время. Скорее всего, они сидят где-нибудь в укрытии, на тщательно подготовленных позициях и ждут, пока правительственные войска не подойдут к ним сами и не выйдут на открытое место.
Бопре боялся присесть отдохнуть, боялся снова потерять сознание, тогда Андерсон вынужден был бы сообщить об этом на КП. Пришлось просто прислониться к дереву и закурить, забавляясь мыслью о том, как они с Дангом поедут в Вермонт кататься на лыжах и как он скажет, вытаскивая его из сугроба: "О, это мой добрый друг, вьетнамский лыжник капитан Данг! Капитан, вы делаете успехи больше меня, я теряю престиж!"
Тут к нему подошел с рацией Андерсон.
- Сегодня они знают про нас всю подноготную, черт подери,- сказал он.- Только что обстреляли Ролстона и тринадцатый батальон. Всего несколько минут назад. Плохо. Чертовски плохо. Большие потери. Очень большие. Сначала думали, что Ролстон убит, но потом его нашли. Он ранен в ногу. Видимо, вьетконговцы не обратили внимания, решив, что он мертв. Теперь он не переставая бормочет: "Все убиты, все убиты!" Убитых очень много. Больше, чем в первый раз. Та же чертова история. Они шли через рисовое поле. Уже дошли до середины, когда вьетконговцы открыли огонь. Уложили чуть не половину батальона. Перекрестный огонь. Наши засекут один пулемет, и тут же начинает стрелять другой. Проклятые вьетконговцы все знали заранее. Командир батальона Чин убит. Хороший офицер. Он шел в голове колонны и, когда началась стрельба, не растерялся и пошел с группой солдат в обход - и снова впереди, а вьетконговцы и это предвидели: встретили их шквальным огнем. Уложили почти всех. Буквально изрешетили. Атаковали колонну сразу спереди и сзади. Тело Чина разорвало в клочья. Как раз когда его несли, полковник стал кричать, чтобы они послали кого-нибудь в обход, а ему ответили, что уже послали и эта группа уже уничтожена. Он спросил, кто ее вел, ему сказали, что Чин, и это произвело на него сильное впечатление. Дежурный по КП говорит, что положение скверное. Один санитарный вертолет сел там, а второй обстреляли. Три члена экипажа погибли, а ребята во втором злы как черти. Кричат, что все было подстроено заранее. Дежурный говорит, что еще ни разу не слышал, чтобы вертолетчики так бушевали. Дежурный говорит, что туда перебрасывают резерв, хотя Ко этого не хотел, и вьетнамцы до того нервничают, что высадили резерв подальше от опушки, где их обстрелять не могут, и теперь им добираться до джунглей не меньше часа. Говорит, что полковник в бешенстве и к тому же напуган. Говорит, первый раз видит, что полковник испугался. Скверный день. По его мнению, даже полковник примирился с тем, что послали подкрепление.
- Что полковник думает обо всем этом?- спросил Бопре дежурного.
- Обстановка ему очень не нравится. Они сейчас решают, не прекратить ли операцию, чтобы просто забрать вас отсюда - и дело с концом. Но мне кажется, он боится предложить это нашим друзьям, потому что друзья подумают, что мы струсили. Так что, скорее всего, вам придется топать дальше. Он сожалеет и просит передать привет нашим друзьям.
То, что произошло с группой, двинутой в обход, рассеяло последние сомнения Бопре. Слишком уж хорошо, слишком профессионально все было организовано. У него возникло жуткое ощущение, что вьетконговцы играют с ним как кошка с мышью. Он увидел себя пятнышком на экране чьего-то радиолокатора: они наблюдали за каждым его движением и поджидали его в удобном для себя месте в удобное для себя время. Он твердо знал, что они идут навстречу засаде. Возможно, вьетконговцы как раз теперь выбирают, стрелять ли ему в голову, грудь или живот, и спорят, что будет лучше. Вьетконговцам план операции известен во всех подробностях. "Да и вообще,- подумал он,- скорее всего, они его и разработали".
Он развернул карту и прикинул, где и когда попали в засаду две другие колонны - в одиннадцать сорок пять и в двенадцать тридцать. Если идти к месту соединения, которое теперь вряд ли может состояться, вдоль канала, как указано в маршруте, то в час пятнадцать они войдут в деревню Аптхань. Он еще раз взглянул на карту и решил, что засада ждет их где-то за деревней. Вьетконговцы не будут спешить, они дадут правительственному отряду войти в деревню и не станут атаковать, пока солдаты насторожены, подтянуты и находятся в боевой готовности, но когда окажется, что вьетконговцев в деревне нет, наступит расслабление, солдаты опять станут беспечными, и тогда за деревней Вьетконг ударит. Бопре протянул Андерсону карту, показывая место, где это может произойти.
- Засада. Будет здесь, у первого же открытого места.
Он показал Андерсону на канал поменьше, проходивший параллельно главному, на расстоянии немногим более четверти мили от него. Необходимо отойти в сторону от главного канала, так как противник - в этом он уверен - ждет их именно там. Конечно, это тоже не выход; в любой другой войне, если знаешь, где тебя ждет засада, можно обойти противника с фланга и застать его врасплох, но здесь такой маневр невозможен - не тот личный состав. Так что единственно реальный выход - избежать соприкосновения с основными силами противника. Надо отходить от основного канала.
Бопре включил рацию и очень медленно, с расстановкой, тщательно выговаривая каждое слово, сказал:
- Передайте полковнику, что мы следуем дальше, как он хотел. Идем, как шли. Передайте, что мне не нравится идея возвращения или обхода.- Помолчав, Бопре повторил медленно и ясно:
- Мы не хотим сворачивать в сторону или прекращать выполнение задачи. Считаем, что для беспокойства нет оснований.
Дежурный офицер, немного растерявшись, сказал, что, конечно, он передаст полковнику, если Бопре действительно этого хочет.
Бопре сказал Андерсону:
- Идите к вашему другу, пусть передаст то же самое по своему радио, слово в слово, и повторит это несколько раз. Добиться того, чтобы он повторил, наверно, будет не так уж трудно. Скажите, что ему не надо говорить с Дангом. Скажите, что Данга я беру на себя.
- Воина Данга?
- Его самого.
Андерсон повернулся, и Бопре сказал ему вслед:
- И посоветуйте вашему вьетнамскому другу проверить их штабных и выяснить, кого они любят на самом деле.
Бопре отправился искать Данга. Отряд уже снова шел, и ему пришлось пробираться сквозь колонну. Солдаты шли скученно и беззаботно болтали, а он думал об открытом поле впереди, где ждет Вьетконг, и о том, как глупо умирать здесь, среди таких вояк, которые со смехом шагают прямо на засаду, как будто это не война, а какая-нибудь увеселительная прогулка. Ему стало страшно. До сих пор эта война слишком часто располагала его к расхлябанности, лени, даже к высокомерию. Он с презрением относился к своим коллегам, к союзникам, к народу, иногда даже к противнику. Это он сказал священнику, что они тут недостаточно напуганы, чтобы молиться. И вот теперь он почувствовал, что это серьезно. Он не хочет умирать, не хочет быть одной из этих смеющихся кеглей.
***
После первой засады Тыонг не испытывал гнева, а только раздражение и, пожалуй, даже скуку из-за Андерсона. В конце концов, ведь когда убивали кого-то из американцев, он, Тыонг, не бежал к Андерсону выражать соболезнования по поводу гибели какого-нибудь сержанта - грузного, дюжего сержанта, который приехал во Вьетнам спать с проститутками. Но после второй засады его охватили гнев и возмущение. Командуя группой, выполнявшей обходный маневр, погиб Чин - один из немногих офицеров дивизии, вызывавших у Тыонга восхищение и доверие, худой, мускулистый меленький северянин, который, казалось, надел форму своего старшего брата, настолько меньше остальных офицеров он был, но волосы он нарочно (Тыонг был в этом уверен) носил очень длинные, потому что остальные стриглись коротко, подражая американцам.
Тыонг шел вместе с солдатами и уговаривал их не дремать: они отоспятся во время следующей операции, а на этот раз он тайно договорился с Вьетконгом о том, что стрелять из засады будут только в лентяев, в тех, кто спит на ходу. Когда отряд приблизился к деревне Аптхань, он приказал передним произвести разведку огнем и развернуться веером, потому что ему надоело таскать на себе с поля боя по пять человек вместо одного,- если они не поостерегутся, он, того и гляди, вывихнет себе спину. Бопре услышал, как приказ Тыонга передавался по колонне, и обрадовался: хотя он и считал, что противника в деревне нет, но вьетконговцы так или иначе услышат выстрелы и решат, что правительственные войска вот-вот попадут в ловушку.
К деревне отряд подходил с оглушительным шумом: стреляли легкие пулеметы, а иногда даже миномет. Андерсон, находившийся в это время в хвосте колонны и вместе с ней свернувший вправо, на открытое поле перед деревней, не понимал, что происходит впереди и почему стреляют. Он не слышал приказа, переданного в голову колонны, и мысленно выругал вьетнамцев за то, что они ничего ему не сообщили. Он был уверен, что они знают что-то, чего не знает он. Он увидел, что солдат перед ним стреляет из автомата, и быстро расстрелял половину обоймы в ближайший куст. Он услышал позади себя стоны и пошел вперед. Чертовски глупо со стороны вьетнамцев не информировать его о происходящем и чертовски типично, думал он. Стрельба была очень интенсивной, но он не мог разобрать, откуда ведут огонь. Обычно он умел угадывать расположение огневых точек противника по вспышкам, но на этот раз он, как ни вглядывался в стену леса, ничего обнаружить не смог и пришел в уныние. Все это напоминало ужасающую грозу, казалось, грохот никогда не прекратится, а будет возрастать и нарастать, но вдруг стало заметно тише, а потом, прежде чем Андерсон осознал, что произошло, наступила полная тишина.
Когда Андерсон добрался до деревни, голова колонны вступила в нее. Солдаты смеялись и шутили, и сначала Андерсон терялся в догадках, но потом понял, что это была рекогносцировка, и рассердился на вьетнамцев, поставивших его в глупое положение. В этой стране ни от кого нельзя добиться толку. Он поглядел на солдат, ожидая увидеть насмешливые улыбки, но затем сообразил, что они и не подозревали о его раздражении и растерянности, и если даже смотрели на него тогда, то думали, что он, как и они, стрелял, а не вел бой, не защищался от пуль. Андерсон почувствовал, что его раздражение проходит, и вспомнил, что вьетнамцы ему нравятся. Он улыбнулся им.
- Сколько людей мы потеряли при взятии этой деревни?- спросил он.- Это была великая битва!- И они засмеялись вместе с ним.
***
Аптхань была крохотной деревушкой, одной из тех, про которые полковник говорил, что найти их можно только на картах Вьетконга. Бопре еще не приходилось видеть здесь таких маленьких деревень: всего несколько хижин, причем как будто давно покинутых. В деревне царила полная тишина - и не по контрасту с недавней пальбой, а настоящая, нерушимая тишина. И Бопре, которому нравилось считать, что все вьетнамцы и все вьетнамские деревни одинаковы, был охвачен непривычным чувством. Он видел в этой стране почти все, но не это.
Он спросил Данга, где же депутация от ликующих жителей, но Данг не уловил шутки и сказал, что в этом виноваты коммунисты Вьетконга.
- Вы считаете, что тут была резня, капитан Данг?- спросил Бопре ему в тон.
- Да,- сказал Данг.- "Резня"- это точное слово. Из ваших фильмов об индейцах.- Он казался весьма довольным собой.
Бопре увидел, что Андерсон заговорил с молодым вьетнамским лейтенантом. "Наверно, спрашивает, куда девались жители деревни",- подумал он и проникся симпатией к вьетнамцам, что случалось с ним редко.
Теперь он чувствовал себя немного лучше и рискнул сесть в тени хижины. Однако и тень не спасала от жары. Наоборот, после того как он остановился, пот полил с него даже еще сильнее. Бопре решил, что, вернувшись с этой операции (если он вернется), он попробует пить меньше. Какой смысл? Он сумеет воздержаться, и пусть кто-нибудь другой уходит последним из бара. Он сидел, перекатывая во рту воду, и очень гордился тем, что не глотает ее.
И тут они обнаружили старика. Много худых и изможденных стариков перевидал Бопре во Вьетнаме, но таких, как этот, еще не встречал. Его белая одежда была очень чистой. "Кем бы ни был этот старый хрыч, но кто-то стирает его одежду",- подумал Бопре. Старика случайно обнаружили в одной из хижин. Эту хижину уже один раз обыскивали, но он был такой худой и неподвижный, что его сначала не заметили. Бопре, услышав это объяснение, счел его правдоподобным. Старика обступили со всех сторон, но обыскивать не стали. Данг решил допросить его сам. Андерсон стоял рядом. Бопре тоже заинтересовался и, подойдя ближе, знаком попросил Андерсона переводить. Данг сказал что-то.
- Данг спрашивает, где все остальные,- шепнул Андерсон.
Взглянув на Данга, старик посмотрел сначала в один конец деревни, потом в другой.
- Все ушли,- ответил он.
Это была констатация факта. С этим нельзя было спорить. И Данг слушал молча. Потом он начал быстро задавать один вопрос за другим: куда ушли, не спрятал ли он их, где противник, помогает ли он противнику.
Старик помолчал. А потом медленно, с гордостью сказал что-то. Бопре заметил удивление на лицах вьетнамцев. Андерсон перевел:
- Он говорит, что никогда не помогал французам, никогда ничего им не говорил.
Все опешили, даже Бопре.
- Вот черт!- пробормотал он.- Что теперь скажет Данг?
Он заметил, что на лице молодого вьетнамского лейтенанта промелькнула улыбка, но солдаты, если им и было смешно, сумели сохранить серьезность, точно старик произнес клятву в верности правительству. Старик опять что-то сказал, и Андерсон перевел:
- Французы заставляли его говорить, но он молчал. Он не дал французам одурачить себя. Данг говорит, что это хорошо, но та война кончилась, французы ушли.
Старик опять заговорил.
- Он говорит, что никогда не помогал им. Есть свидетели, которые могут подтвердить. О его верности знают. Он рад, что французы ушли. Но он спрашивает, зачем мы здесь, если французы ушли. Сейчас Данг говорит, что есть новый враг, даже хуже французов. Старик спрашивает, говорят ли эти враги на чужом языке, как французы. Данг злится. Он заявил, что они говорят на непонятных, чужих языках. Старик говорит, что в таком случае он им тоже не станет помогать, что он никогда не помогал французам: они приходили и задавали ему много вопросов, а он им все врал. ("Вот этому я верю,- заметил Бопре.- В первый раз за весь день я чему-то поверил"). Когда французы пришли опять, он послал их в такое место, где находились солдаты, похожие на нас, и эти солдаты убили несколько французов. На следующий день французы снова пришли и убили много людей, в том числе его жену и сына. Сам он спрятался, иначе его бы тоже убили. После всего этого он, конечно, не станет им помогать, он очень рад, что они ушли, ему никогда не нравился их язык. Судя по всему, старику не очень-то нравится Данг. Он только что спросил Данга, воевал ли он с французами. Данг ответил, что конечно. Все воевали.
Внезапно, может быть из-за последнего вопроса, Данг оборвал разговор. Но теперь уже хотел говорить старик: он рад приветствовать таких людей, как Данг, и Данг должен оказать ему честь и выпить с ним чаю. Данг досадливо отказался, заявив, что его еще ждут дела.
- А,- сказал старик,- надо убивать новых врагов, которые говорят на чужом языке.
Он как будто подмигнул Дангу, а Данг сказал: да, именно так, а чаю они выпьют, когда придут в следующий раз.
Бопре этот диалог сначала забавлял, но теперь он встревожился, опасаясь, что Данг будет испытывать неловкость и предпочтет не отклоняться от намеченного маршрута.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Отряд уже собрался оставить деревню, когда Данг подошел к Бопре и сказал:
- Я решил поиграть с коммунистами Вьетконга в их игры. Мы устроим им ловушку.
Бопре молча слушал, он догадывался, что означают эти слова: Данг решил воспользоваться его советом, в последнюю минуту свернуть с заданного маршрута к вспомогательному каналу, а вдоль главного канала послать только разведывательную группу.
- Я решил идти вот здесь.- Данг указал на вспомогательный канал, тянувшийся параллельно главному менее чем в полумиле от него.- Если коммунисты Вьетконга на канале Донгтьен, то они атакуют разведывательную группу. Мы же повернем вот сюда, и...- Данг сделал паузу,- я их уничтожу.- Он стукнул кулаком по ладони.- Если же противник на маленьком канале, то я его и там уничтожу.
"Сукин ты сын!"- подумал Бопре и, улыбнувшись от облегчения, похлопал Данга по плечу. Он похвалил план, типичный для всего того, чему капитан Данг учил его в ходе этой войны. Благодаря капитану Дангу противник будет застигнут врасплох, и это ему дорого обойдется. "Сукин ты сын!" - думал Бопре.
Они начали обсуждать подробности. В ложной разведгруппе пойдут восемь человек минимум с одним автоматом. Им будет дан приказ производить как можно больше шума - они пойдут с транзисторами и будут разговаривать во весь голос. Из деревни они выйдут все вместе, но потом отряд потихоньку свернет в сторону, а разведгруппа пойдет дальше вдоль главного канала. План был неплохой, и они быстро обо всем договорились. Но позже, когда они выходили из деревни, Бопре проверил оружие разведгруппы. Оказалось, что она вооружена только карабинами и винтовками "М-1".
- По-моему, здесь какая-то ошибка, капитан Данг,- сказал Бопре.- У разведчиков нет ни одного автомата.
- Никакой ошибки, капитан Бопэй,- сказал Данг.- Я не думаю, что могут возникнуть трудности.
- Но им может понадобиться автомат. Если они наткнутся на засаду, им нужно будет продержаться, пока вы обойдете противника и атакуете его, капитан Данг. Я знаю, что вы пойдете быстро, но некоторое время они все равно будут одни.
- Я не думаю, что коммунисты Вьетконга нападут на них,- сказал Данг.- Я не думаю, что была сделана ошибка. Может быть, вы не совсем поняли.
"Нет, я-то все понимаю,- подумал Бопре.- Я уже достаточно давно здесь и как раз это научился понимать. Сайгону не нравится терять автоматы - даже одну штуку, и скрыть такую потерю офицер не может. Про потери в живой силе он может врать, сколько душе угодно, но не про автоматическое оружие".
Он пристально посмотрел на Данга, и ему стало тошно. Он на мгновение пожалел, что ему пришла мысль изменить маршрут и послать разведгруппу.
Каждая война, в которой Бопре приходилось участвовать, всегда ассоциировалась в его сознании с определенным видом смерти. Во вторую мировую войну смерть представлялась ему снарядом - огромным орудийным снарядом, который поразит его, прежде чем он услышит его вой, а потому нечего и прислушиваться: только в самую последнюю долю секунды раздастся взрыв и, подтвердив все его страхи, разнесет его тело в клочья, оторвет руки и ноги, оставит от него кровавое месиво.
В Корее видение смерти изменилось. Оно стало более эффектным: он переходит линию фронта, его предает агент-двойник, и, взятый в плен в какой-нибудь промерзшей лачуге, он двое суток подвергается допросам, есть ему не дают вовсе, от голода и холода он с каждой минутой теряет силы, пока в конце концов ему не становится все равно, жив он или нет, а потом - пуля в лоб, и никто не придет на выручку, потому что никто даже не знает, что его нужно выручать. Во Вьетнаме опять все стало по-другому - видение смерти не было таким четким, потому что мысль о смерти не преследовала его так, как в Корее. И оставалась более умозрительной. Картина складывалась постепенно: снайперская пуля - одна-единственная и, в сущности, случайная, потому что стреляют здесь плохо; потом медленное умирание на жаре в течение часа, потому что никто не доставит тебя в медпункт,- процесс, мучительный именно из-за медленности, из-за того, что ему предоставлена возможность сознавать, наблюдать и изучать собственную смерть. А потом все это будет расценено как недоразумение, и все будут очень сожалеть, что снайпер не промахнулся и что врач не прибыл, ведь потом окажется, что рана вовсе не была смертельной, и все это будет названо недоразумением, и его смерть послужит лишним поводом обругать бездарность этой страны. Но ругать ее будут другие.
Бопре включил рацию и, тщательно закодировав текст, попросил поддержки авиацией. Дежурный по КП явно улыбнулся, и его удивление прозвучало в приемнике. Ведь в баре Бопре был первым, кто издевался над военно-воздушными силами, осыпал летчиков насмешками, называл их чистоплюями, сравнивал с кинозвездами - у них, заявлял он ироническим голосом, самые красивые полковники и генералы (даже красивее, чем в морской пехоте), их генералы смахивают на лейтенантов с посеребренными висками, так свежа и молода их кожа. И теперь радио донесло до него удивление и улыбку дежурного по КП: "Вам понадобилась помощь чистоплюев?" Мысленно расшифровывая закодированные фразы, Бопре понял, что "Т-28" не готовы к вылету.
- Завтра будет уже поздно,- сказал он.
- Вы у нас не единственный,- сказал дежурный.- И вас еще даже не обстреляли.
- Ну, этот недосмотр скоро будет исправлен,- сказал Бопре.
- Я ничего не могу обещать.
- Попытайтесь сделать что-нибудь до наступления ночи. Ради старой дружбы.
- Послушайте,- сказал дежурный.- Не надо со мной так разговаривать. Это не от меня зависит. Не я здесь распоряжаюсь. Будь они у меня, вы бы их получили. Но у меня их нет. Я и так делаю все, что могу. Когда получу, вам первому скажу. А дать то, чего у меня нет, я не могу. Здесь тоже не так легко. По-вашему, хуже, чем у вас там, и быть не может...
- Вот именно,- сказал Бопре.- Хуже, чем у меня тут, и быть не может.
Бопре оглянулся на солдат: они шли хорошо и соблюдали тишину, как им было приказано. Против обыкновения он был ими почти доволен. Против обыкновения они казались серьезными. Может быть, они не меньше его думают о смерти, может быть, им не хочется умирать, как и ему. Бопре шел почти в голове колонны, и его охватила тревога, когда отряд вышел на относительно открытое место.
***
Первая очередь ударила позади Бопре и скосила пятнадцать человек. Первой мыслью Бопре было: это случилось,- а потом он осознал, что все еще жив. Он услышал сзади себя стоны и новую очередь, на этот раз очень длинную, точно палец стрелка прилип к спуску и никак не мог от него оторваться. Бопре лежал, но не отстреливался, он просто лежал, живой, пытаясь разобраться в том, что происходило, пытаясь перевести дух и пытаясь остаться в живых. Все произошло так быстро (хотя он и знал, что это может случиться, он почти ждал этого), что он не помнил даже, как выглядела местность до того, как это началось. Они шли вдоль канала и еще не добрались до места слияния. Справа были густые заросли, а канал был слева. Бопре оглянулся и по разбросанным телам увидел, что убитых много. Уцелевшие солдаты, казалось, совсем растерялись, и он не мог понять, почему возникла такая неразбериха, почему никто не командует. Должен же кто-то командовать. Он еще раз посмотрел, как лежат солдаты, и решил, что удар был нанесен в середину колонны, а не в голову; они рассчитывали снять офицеров, офицеры правительственных войск редко ходят в голове колонн. Вот почему он остался жив.
Главная огневая точка - то есть он считал ее главной - снова ожила. Она находилась слева, на другом берегу канала, ярдах в пятидесяти от них, а может быть, и ближе. Ответного огня все не было. Бопре поглядел туда, где должен был находиться хвост колонны, и понял, что были даны одновременно две очереди,- несколько поодаль лежала еще одна груда мертвых тел, и потрясенному Бопре показалось, что среди них как будто лежит и тело американца.
Сначала следовало понять, каким оружием пользуется противник. Во-первых, легкий пулемет, в этом можно было не сомневаться. Он прислушался, бьет ли и второй пулемет, но пришел к заключению, что стрельба где-то впереди ведется из автомата. Пулеметчик стрелял длинными очередями, и Бопре сразу подумал, что вьетконговцы очень уверены в себе, если так неэкономно расходуют патроны. Обычно они вели себя, как инструкторы на полигоне: стреляли короткими очередями и не бросались патронами зря.
Позади него лежали вьетнамцы. Они смотрели на него, словно ожидая, что он скажет им, где и когда они умрут, там, где лежат, или на несколько ярдов дальше, сейчас или через десять минут. Он почувствовал, что они видят в нем своего неофициального командира. Он не знал, жив Данг или убит, но это, видимо, уже не имело значения. Командовать Данг, во всяком случае, не мог.
Бопре прополз несколько ярдов до более укрытого места, достал гранату и, выдернув чеку, метнул ее. Граната упала на другом берегу канала, далеко не долетев до цели, но все же это был ответный огонь. Он взял свой автомат, прицелился примерно туда, где находился пулемет, и, дав короткую очередь, отполз в сторону. Немедленно раздалась новая пулеметная очередь, гораздо длиннее и уверенней, чем его. Он почувствовал, что вьетнамцы еще смотрят на него и чего-то ждут. Он хотел им крикнуть, чтобы они открыли огонь, но не знал, как отдать эту команду по-вьетнамски. Но может быть, если он будет стрелять, то и они в конце концов последуют его примеру. Позади себя он все еще слышал стоны и хрипы умирающих вьетнамцев, однако они с каждой минутой становились тише. Когда он только приехал сюда, его уверяли, что вьетнамцы не похожи на американцев, что они умирают молча, но это был неверно: они умирали, как все. Он не увидел Данга и молодого вьетнамского лейтенанта и не знал, что с ними, но тишина вокруг подтверждала смерть Андерсона. Андерсон в первую очередь был бесстрашен и агрессивен; он уже расстрелял бы несколько обойм, но ободрял бы солдат, и его голос, остававшийся голосом выпускника Вест-Пойнта, даже когда он говорил по-вьетнамски, гремел бы над тропой.
Бопре дал еще очередь и, обернувшись, жестом приказал вьетнамцу с автоматом подползти ближе. Он снова убедился, что, хотя солдаты и не стреляли, а лежали, прижавшись к земле, тем не менее они внимательно следили за ним. "Они хотят жить, мы все хотим жить,- подумал он.- И они будут делать то, что я им велю". Вьетнамец действительно пополз. Снова раздалась длинная пулеметная очередь - недолет.
Бопре не знал языка и полагался только на жесты. Он знаками объяснил солдату, что хочет поговорить с капитаном Дангом, а потом вернется (это и было самое главное), а они пока должны стрелять. Он поймал взгляд другого солдата и тоже знаками объяснил, что ему надо отползти на несколько ярдов к дереву и оттуда вести огонь; когда вьетнамец занял нужную позицию, Бопре утвердительно закивал, и вьетнамец широко улыбнулся. "О господи!- подумал Бопре.- Они даже здесь улыбаются". Оба вьетнамца открыли огонь. Бопре пополз назад, а они (о чудо!) начали прикрывать его. Он полз, испытывая страх и, как ни странно, трезвое спокойствие. Только сейчас он сообразил, что вьетконговцы слишком надежно укрылись на том берегу канала и от этого прицел у их пулеметов слишком высок, вот почему оказалось возможным передвигаться ползком. Это их просчет. Слава богу, враг тоже не безупречен, он, как и мы, тоже не хочет умирать.
Прислушиваясь к неутихающей перестрелке, он добрался до того места, куда ударила первая пулеметная очередь. Там лежали трупы вьетнамцев. Они валялись как попало, словно чья-то гигантская рука бросила их, как игральные кости. Бопре вдруг понял, что не помнит никого из них в лицо и не знает их имен. Ближайший к нему сосал сахарный тростник, и стебель все еще торчал у него изо рта. У лежащего рядом оторвало часть лица - очередь прошила его шею и подбородок. Бопре опять подумал, что прицел был слишком высок. Иначе вышло бы еще хуже. Один солдат лежал на боку, протянув руку ладонью вверх, точно молясь; другой лежал ничком, в безмолвии закрыв глаза, но из его транзистора лилась их тягучая музыка - либо он включил его, умирая, либо держал включенным все время, несмотря на приказ о звукомаскировке.
Бопре пополз дальше. Теперь он увидел Андерсона. Когда в него попали пули, он повернулся и упал навзничь. Его рот был полуоткрыт. Пули попали ему в шею и грудь. Бопре поискал глазами капитана Данга и не увидел его. Черт его дери, он же должен был идти здесь, недалеко от середины колонны. Бопре снова огляделся и тут заметил Данга в нескольких шагах от себя. Данг сидел совершенно неподвижно, по-видимому, он был ранен в ноги и оцепенел от шока, хотя раны вряд ли были серьезными. Бопре вдруг почувствовал, что ему очень нужен молодой вьетнамский лейтенант. Тыонг его зовут. Он огляделся и обругал лейтенанта. Конечно, тоже очумел от страха, все они такие. Он решил подождать одну-две минуты, а потом, если понадобится, отправиться на поиски лейтенанта. И тут он увидел Тыонга, который медленно полз к нему.
Бопре сказал Тыонгу, что Андерсон убит, и добавил:
- А от капитана Данга толку ровно столько же.
Лейтенант мягко сказал, что капитан Данг воюет в этой войне очень долго. Этот тихий, спокойный ответ в момент, когда они прижимались в земле, спасаясь от пуль, тронул Бопре. Лейтенант добавил:
- Простите, капитан, но я не думаю, что нам будет оказана помощь.
Бопре снял с Андерсона рацию и связался с КП.
Дежурный уже получил от вьетнамцев сообщение о засаде и считал, что Бопре и Андерсон оба убиты.
- Я пока жив,- сказал Бопре.
- Мы чертовски этому рады,- сказал дежурный.- Оставайтесь там, слышите? Мы скоро пришлем помощь.
- Помощь нужна немедленно. Что вы пришлете?
- Вертолеты вылетели полчаса назад обратно в Соктранг и вряд ли вернутся. Большая часть резерва уже введена в бой, причем Ко опасается еще более крупной засады. Он очень нервничает,- сказал дежурный.
- Соврите ему что-нибудь.
- Потери тяжелые?
- Не знаю. Впрочем, тяжелые. У меня тяжелые. Неужели вы ничего не можете прислать? А "Т-28"?
Дежурный объяснил, что у одного из самолетов забарахлил мотор и они оба улетели в Бьенхоа.
- Пришлите один,- сказал Бопре.
- Они любят летать попарно,- сказал дежурный.- Они не любят одиночных полетов. Военно-воздушные силы относятся к этому очень болезненно.
- И я к этому отношусь болезненно,- сказал Бопре.
Наступила пауза, потом дежурный спросил:
- Продержитесь?
- Сообщу вам позднее,- сказал Бопре.
- Послушайте,- сказал дежурный,- если я был резок, то извините. Это вышло случайно. Я знаю, каково вам сейчас. Договорились?
- Договорились,- сказал Бопре.- Я понимаю.
"Черт подери,- подумал он.- Они и вправду поставили на мне крест. Ему хочется очистить совесть".
Бопре прислушался и услышал только очереди коммунистов.
- Прикажите им открыть огонь! - взвизгнул он, обращаясь к лейтенанту.- Неужели вы не можете заставить их сделать даже это? Что они за люди, черт их дери!
Возможно, Бопре ошибся, но ему показалось, что он уловил на лице лейтенанта сочувствие. Возможно, он слишком явно выдал свой собственный страх.
- Я тоже не хочу умереть здесь, капитан,- сказал лейтенант.
***
Когда началась стрельба, Тыонг шел в хвосте колонны. Он упал на землю и перекатился за деревья, еще не зная, могут ли они послужить укрытием, но ему не удавалось определить, откуда стреляют, и он хотел только одного: распластаться на земле. Сообразив, что нападению подверглась голова колонны, он начал медленно ползти туда. Так он добрался до радиста. Рация все еще работала, но радист не двигался. Тыонг подполз, взял рацию и повернул налево за деревья, потому что где-то рядом просвистели пули.
- Мы попали в засаду, мы попали в засаду,- сказал он.
- Вы уверены?- спросили из штаба.
- Да,- сказал он бесстрастно.- Я уверен. Мы попали в засаду. Потери тяжелые.
Его голос был слишком спокоен, почти равнодушен. Дежурный его не узнал, Тыонг редко разговаривал по радио.
- А где Нгуен?- спросил дежурный про радиста.
- Нгуен убит,- ответил Тыонг, не зная, насколько его слова соответствовали истине. Он ведь даже не пощупал пульс.
По радио назвали пароль, и Тыонг растерялся. Он редко пользовался рацией и забыл отзыв. В конце концов он все-таки его припомнил, а затем сказал:
- Мы не вьетконговцы. Мы не вьетконговцы. Но мы попали в засаду.
- Мы хотели удостовериться,- сказал дежурный, а потом попросил подождать.
Вскоре он передал от имени Ко и начальника провинции, что они ничем не могут им помочь, поскольку американцы сделали глупость, отправив вертолеты на базу, а их истребители по обыкновению бездействуют. Надо оставаться на месте и ждать развития событий. Может быть, нужна артиллерийская поддержка? Пусть остаются на месте: начальник провинции проверил, они находятся в радиусе действия батарей.
- Нет,- ответил Тыонг, испугавшись.- Не надо артиллерии. Поблагодарите начальника провинции.
"Начальник провинции,- подумал он,- любит обстреливать из своих орудий всю местность, но мы не окопались, а вьетконговцы окопались".
- Хорошо,- сказал дежурный и опять попросил подождать. Вернувшись, он сказал, что начальник провинции просит лейтенанта передать капитану Дангу, что он питает к капитану Дангу самое горячее уважение и восхищение, и напомнить ему, что орудий у них очень много.
- Отлично,- сказал Тыонг и, передав рацию солдату, вернулся в хвост колонны.
Стрельба все еще была очень интенсивной, но доносилась она не с тыла, и это его тревожило. Он отобрал двух человек, которые ничего не делали (это было просто, так как они все ничего не делали) - одного с автоматом и другого с карабином,- и, отведя их в самый конец колонны, приказал им смотреть в оба. Что бы ни происходило в голове колонны, они не должны оборачиваться. Это приказ, а если их заколют в спину, он, Тыонг, берет ответственность на себя, а они будут Героями Республики, если кто-нибудь останется в живых, чтобы представить их к награде. Оба солдата кивнули, Тыонг был уверен, что, защищаясь, они будут драться хорошо. Во всяком случае, если им зайдут в тыл, отряд теперь будет предупрежден за несколько минут. Обеспечив таким образом тыл, он пополз обратно к центру колонны.
Его удивляло, что он больше не испытывал страха. Он словно предвидел именно эту засаду, и то, что солдаты не будут отвечать на огонь противника, и то, что отряд останется без командира. Он давно ожидал чего-то подобного, собственно говоря, до сих пор ему просто отчаянно везло, слишком часто им удавалось избежать опасности, слишком много других подразделений попадало в засады и гибло в то время, как его собственная рота отделывалась легкими потерями. Казалось, он смотрит на войну со стороны, как зритель, а не участвует в ней. Собственно говоря, когда началась стрельба, у него возникла мысль переправиться через канал и дезертировать. Он же с самого начала наблюдал, как удивительно глупо развертывалась эта операция - этап за этапом, глупость за глупостью. Они шли прямо в приготовленную для них ловушку, и теперь ловушка захлопнулась.
Он полз к середине колонны, все больше углубляясь в зону обстрела и двигаясь все медленней. Он различил очереди из пулемета и из автомата и предположил, что они должны подкреплять винтовочные залпы. Его удивляло, почему засада ограничилась только этим и не открыла сразу огонь из автоматов, и он с беспокойством думал: когда же вьетконговцы ударят в полную силу? Наконец Тыонг добрался до того места, по которому били пулемет и автомат противника, заставляя его солдат прижиматься к земле. Он полз вперед дюйм за дюймом, каждую секунду ожидая пулю. Он уже понял, что хвост колонны пострадал не очень сильно, но теперь он увидел перед собой лежавшие вповалку трупы, и к горлу у него подступила тошнота. Он увидел тех, кто был жив,- они пытались укрыться за еле заметными неровностями почвы, на их лицах были написаны страх и растерянность, и они старательно избегали взгляда лейтенанта. В эту минуту впереди раздались ответные выстрелы, и он решил, что, скорее всего, это толстый американец. Он прополз мимо двух солдат, скорчившихся за деревом. Он крикнул, чтобы они стреляли, но они не пошевелились. Тогда он повторил свое распоряжение тоном приказа, и один из солдат спросил, где капитан Данг.
- Я капитан Данг,- ответил Тыонг.
Он поднял карабин, дважды выстрелил у них над головами и предупредил, что, если они не начнут стрелять сейчас же, остальную обойму он выпустит в них. Подкрепляя слово делом, он выстрелил еще раз - в землю у их лиц. И они начали стрелять так злобно, как будто, стреляя через канал, на самом деле стреляли в него, но постепенно они вошли в ритм. Тыонг обнаружил, что он уже больше не зритель, а участник: он принимал решения, он хотел жить и убивать.
Он почти достиг центра колонны, где было больше всего потерь. Тут все еще слышались тихие, приглушенные стоны, точно музыкальный фон для очередей вьетконговцев и отдельных ответных выстрелов. Он увидел перед собой тела шестерых молодых солдат. Одних он знал, других - нет. Среди них оказался солдат, у которого он утром проверял медицинскую сумку. И тут же он осознал, что нынешний вечер, если только они вернутся в Мито, будет одним из тех ужасных вечеров, когда их опередит весть, сообщенная по живому телеграфу, и у госпиталя соберется огромная толпа жен, которые придут, чтобы стать вдовами, придут причитать и просить тела погибших и будут причитать, даже если их мужья остались живы. Почти все будут стоять с детьми - по пятеро-шестеро детей у каждой,- будут стоять шумной, но терпеливой толпой. Они прождут всю ночь, и, когда наступит утро, они все еще будут стоять у входа в приемную батальонного командира, стоять и ждать, чтобы им объяснили их будущее: что с ними будет теперь, куда им идти, как жить. Вот эту обязанность Данг всегда очень охотно передает ему, и он будет объяснять, то и дело умолкая, чтобы дать утихнуть их слезам и воплям, что будущее их, собственно говоря, не предусмотрено, что им следует разойтись по домам и что им причитаются кое-какие деньги, хотя, если говорить честно, деньги эти иногда запаздывали, и он знал, что маленькое пособие, когда наконец оно будет получено, все уйдет на оплату долгов. Торговцы сразу поймут, кто жена, а кто вдова и кому какой предоставить кредит. Торговцы сталкиваются со всем этим часто, и глаз у них наметанный.
Продолжая ползти, Тыонг увидел сбоку трех солдат, которые были живы, хотя, возможно, и ранены, они сидели неподвижно, парализованные шоком.
- Стреляйте!- крикнул он.- Стреляйте, а то придется вам лежать вместе вот с этими! Они были вашими товарищами! Разве вам это безразлично? Безразлично? Что вы за люди?
Впереди толстый американский капитан стоял на коленях возле трупа, по-видимому молодого американца. Тыонг немного было успокоился, когда впереди раздались выстрелы: во всяком случае, американец заставил стрелять. Но теперь, когда он увидел лицо капитана, уверенность пропала. По лицу капитана струился пот, его глаза остекленели, голос был визгливым и сиплым. И он кричал на Тыонга. Тыонг не мешал капитану кричать несколько минут, как ему показалось ("Эти сукины дети не хотят отстреливаться, неужели вы не можете с ними сладить, не можете заставить их драться; проклятый Данг сбежал; проклятая армия, проклятая страна!"), а потом попробовал успокоить человека, который теперь заменял командира. Он старался внушить Бопре веру в солдат и заставить его забыть о Данге.
- Простите, капитан,- сказал он.- Но я не думаю, что нам будет оказана помощь. По-видимому, мы предоставлены сами себе.
***
Отряд уже собрался оставить деревню, когда Данг подошел к Бопре и сказал:
- Я решил поиграть с коммунистами Вьетконга в их игры. Мы устроим им ловушку.
Бопре молча слушал, он догадывался, что означают эти слова: Данг решил воспользоваться его советом, в последнюю минуту свернуть с заданного маршрута к вспомогательному каналу, а вдоль главного канала послать только разведывательную группу.
- Я решил идти вот здесь.- Данг указал на вспомогательный канал, тянувшийся параллельно главному менее чем в полумиле от него.- Если коммунисты Вьетконга на канале Донгтьен, то они атакуют разведывательную группу. Мы же повернем вот сюда, и...- Данг сделал паузу,- я их уничтожу.- Он стукнул кулаком по ладони.- Если же противник на маленьком канале, то я его и там уничтожу.
"Сукин ты сын!"- подумал Бопре и, улыбнувшись от облегчения, похлопал Данга по плечу. Он похвалил план, типичный для всего того, чему капитан Данг учил его в ходе этой войны. Благодаря капитану Дангу противник будет застигнут врасплох, и это ему дорого обойдется. "Сукин ты сын!" - думал Бопре.
Они начали обсуждать подробности. В ложной разведгруппе пойдут восемь человек минимум с одним автоматом. Им будет дан приказ производить как можно больше шума - они пойдут с транзисторами и будут разговаривать во весь голос. Из деревни они выйдут все вместе, но потом отряд потихоньку свернет в сторону, а разведгруппа пойдет дальше вдоль главного канала. План был неплохой, и они быстро обо всем договорились. Но позже, когда они выходили из деревни, Бопре проверил оружие разведгруппы. Оказалось, что она вооружена только карабинами и винтовками "М-1".
- По-моему, здесь какая-то ошибка, капитан Данг,- сказал Бопре.- У разведчиков нет ни одного автомата.
- Никакой ошибки, капитан Бопэй,- сказал Данг.- Я не думаю, что могут возникнуть трудности.
- Но им может понадобиться автомат. Если они наткнутся на засаду, им нужно будет продержаться, пока вы обойдете противника и атакуете его, капитан Данг. Я знаю, что вы пойдете быстро, но некоторое время они все равно будут одни.
- Я не думаю, что коммунисты Вьетконга нападут на них,- сказал Данг.- Я не думаю, что была сделана ошибка. Может быть, вы не совсем поняли.
"Нет, я-то все понимаю,- подумал Бопре.- Я уже достаточно давно здесь и как раз это научился понимать. Сайгону не нравится терять автоматы - даже одну штуку, и скрыть такую потерю офицер не может. Про потери в живой силе он может врать, сколько душе угодно, но не про автоматическое оружие".
Он пристально посмотрел на Данга, и ему стало тошно. Он на мгновение пожалел, что ему пришла мысль изменить маршрут и послать разведгруппу.
Каждая война, в которой Бопре приходилось участвовать, всегда ассоциировалась в его сознании с определенным видом смерти. Во вторую мировую войну смерть представлялась ему снарядом - огромным орудийным снарядом, который поразит его, прежде чем он услышит его вой, а потому нечего и прислушиваться: только в самую последнюю долю секунды раздастся взрыв и, подтвердив все его страхи, разнесет его тело в клочья, оторвет руки и ноги, оставит от него кровавое месиво.
В Корее видение смерти изменилось. Оно стало более эффектным: он переходит линию фронта, его предает агент-двойник, и, взятый в плен в какой-нибудь промерзшей лачуге, он двое суток подвергается допросам, есть ему не дают вовсе, от голода и холода он с каждой минутой теряет силы, пока в конце концов ему не становится все равно, жив он или нет, а потом - пуля в лоб, и никто не придет на выручку, потому что никто даже не знает, что его нужно выручать. Во Вьетнаме опять все стало по-другому - видение смерти не было таким четким, потому что мысль о смерти не преследовала его так, как в Корее. И оставалась более умозрительной. Картина складывалась постепенно: снайперская пуля - одна-единственная и, в сущности, случайная, потому что стреляют здесь плохо; потом медленное умирание на жаре в течение часа, потому что никто не доставит тебя в медпункт,- процесс, мучительный именно из-за медленности, из-за того, что ему предоставлена возможность сознавать, наблюдать и изучать собственную смерть. А потом все это будет расценено как недоразумение, и все будут очень сожалеть, что снайпер не промахнулся и что врач не прибыл, ведь потом окажется, что рана вовсе не была смертельной, и все это будет названо недоразумением, и его смерть послужит лишним поводом обругать бездарность этой страны. Но ругать ее будут другие.
Бопре включил рацию и, тщательно закодировав текст, попросил поддержки авиацией. Дежурный по КП явно улыбнулся, и его удивление прозвучало в приемнике. Ведь в баре Бопре был первым, кто издевался над военно-воздушными силами, осыпал летчиков насмешками, называл их чистоплюями, сравнивал с кинозвездами - у них, заявлял он ироническим голосом, самые красивые полковники и генералы (даже красивее, чем в морской пехоте), их генералы смахивают на лейтенантов с посеребренными висками, так свежа и молода их кожа. И теперь радио донесло до него удивление и улыбку дежурного по КП: "Вам понадобилась помощь чистоплюев?" Мысленно расшифровывая закодированные фразы, Бопре понял, что "Т-28" не готовы к вылету.
- Завтра будет уже поздно,- сказал он.
- Вы у нас не единственный,- сказал дежурный.- И вас еще даже не обстреляли.
- Ну, этот недосмотр скоро будет исправлен,- сказал Бопре.
- Я ничего не могу обещать.
- Попытайтесь сделать что-нибудь до наступления ночи. Ради старой дружбы.
- Послушайте,- сказал дежурный.- Не надо со мной так разговаривать. Это не от меня зависит. Не я здесь распоряжаюсь. Будь они у меня, вы бы их получили. Но у меня их нет. Я и так делаю все, что могу. Когда получу, вам первому скажу. А дать то, чего у меня нет, я не могу. Здесь тоже не так легко. По-вашему, хуже, чем у вас там, и быть не может...
- Вот именно,- сказал Бопре.- Хуже, чем у меня тут, и быть не может.
Бопре оглянулся на солдат: они шли хорошо и соблюдали тишину, как им было приказано. Против обыкновения он был ими почти доволен. Против обыкновения они казались серьезными. Может быть, они не меньше его думают о смерти, может быть, им не хочется умирать, как и ему. Бопре шел почти в голове колонны, и его охватила тревога, когда отряд вышел на относительно открытое место.
***
Первая очередь ударила позади Бопре и скосила пятнадцать человек. Первой мыслью Бопре было: это случилось,- а потом он осознал, что все еще жив. Он услышал сзади себя стоны и новую очередь, на этот раз очень длинную, точно палец стрелка прилип к спуску и никак не мог от него оторваться. Бопре лежал, но не отстреливался, он просто лежал, живой, пытаясь разобраться в том, что происходило, пытаясь перевести дух и пытаясь остаться в живых. Все произошло так быстро (хотя он и знал, что это может случиться, он почти ждал этого), что он не помнил даже, как выглядела местность до того, как это началось. Они шли вдоль канала и еще не добрались до места слияния. Справа были густые заросли, а канал был слева. Бопре оглянулся и по разбросанным телам увидел, что убитых много. Уцелевшие солдаты, казалось, совсем растерялись, и он не мог понять, почему возникла такая неразбериха, почему никто не командует. Должен же кто-то командовать. Он еще раз посмотрел, как лежат солдаты, и решил, что удар был нанесен в середину колонны, а не в голову; они рассчитывали снять офицеров, офицеры правительственных войск редко ходят в голове колонн. Вот почему он остался жив.
Главная огневая точка - то есть он считал ее главной - снова ожила. Она находилась слева, на другом берегу канала, ярдах в пятидесяти от них, а может быть, и ближе. Ответного огня все не было. Бопре поглядел туда, где должен был находиться хвост колонны, и понял, что были даны одновременно две очереди,- несколько поодаль лежала еще одна груда мертвых тел, и потрясенному Бопре показалось, что среди них как будто лежит и тело американца.
Сначала следовало понять, каким оружием пользуется противник. Во-первых, легкий пулемет, в этом можно было не сомневаться. Он прислушался, бьет ли и второй пулемет, но пришел к заключению, что стрельба где-то впереди ведется из автомата. Пулеметчик стрелял длинными очередями, и Бопре сразу подумал, что вьетконговцы очень уверены в себе, если так неэкономно расходуют патроны. Обычно они вели себя, как инструкторы на полигоне: стреляли короткими очередями и не бросались патронами зря.
Позади него лежали вьетнамцы. Они смотрели на него, словно ожидая, что он скажет им, где и когда они умрут, там, где лежат, или на несколько ярдов дальше, сейчас или через десять минут. Он почувствовал, что они видят в нем своего неофициального командира. Он не знал, жив Данг или убит, но это, видимо, уже не имело значения. Командовать Данг, во всяком случае, не мог.
Бопре прополз несколько ярдов до более укрытого места, достал гранату и, выдернув чеку, метнул ее. Граната упала на другом берегу канала, далеко не долетев до цели, но все же это был ответный огонь. Он взял свой автомат, прицелился примерно туда, где находился пулемет, и, дав короткую очередь, отполз в сторону. Немедленно раздалась новая пулеметная очередь, гораздо длиннее и уверенней, чем его. Он почувствовал, что вьетнамцы еще смотрят на него и чего-то ждут. Он хотел им крикнуть, чтобы они открыли огонь, но не знал, как отдать эту команду по-вьетнамски. Но может быть, если он будет стрелять, то и они в конце концов последуют его примеру. Позади себя он все еще слышал стоны и хрипы умирающих вьетнамцев, однако они с каждой минутой становились тише. Когда он только приехал сюда, его уверяли, что вьетнамцы не похожи на американцев, что они умирают молча, но это был неверно: они умирали, как все. Он не увидел Данга и молодого вьетнамского лейтенанта и не знал, что с ними, но тишина вокруг подтверждала смерть Андерсона. Андерсон в первую очередь был бесстрашен и агрессивен; он уже расстрелял бы несколько обойм, но ободрял бы солдат, и его голос, остававшийся голосом выпускника Вест-Пойнта, даже когда он говорил по-вьетнамски, гремел бы над тропой.
Бопре дал еще очередь и, обернувшись, жестом приказал вьетнамцу с автоматом подползти ближе. Он снова убедился, что, хотя солдаты и не стреляли, а лежали, прижавшись к земле, тем не менее они внимательно следили за ним. "Они хотят жить, мы все хотим жить,- подумал он.- И они будут делать то, что я им велю". Вьетнамец действительно пополз. Снова раздалась длинная пулеметная очередь - недолет.
Бопре не знал языка и полагался только на жесты. Он знаками объяснил солдату, что хочет поговорить с капитаном Дангом, а потом вернется (это и было самое главное), а они пока должны стрелять. Он поймал взгляд другого солдата и тоже знаками объяснил, что ему надо отползти на несколько ярдов к дереву и оттуда вести огонь; когда вьетнамец занял нужную позицию, Бопре утвердительно закивал, и вьетнамец широко улыбнулся. "О господи!- подумал Бопре.- Они даже здесь улыбаются". Оба вьетнамца открыли огонь. Бопре пополз назад, а они (о чудо!) начали прикрывать его. Он полз, испытывая страх и, как ни странно, трезвое спокойствие. Только сейчас он сообразил, что вьетконговцы слишком надежно укрылись на том берегу канала и от этого прицел у их пулеметов слишком высок, вот почему оказалось возможным передвигаться ползком. Это их просчет. Слава богу, враг тоже не безупречен, он, как и мы, тоже не хочет умирать.
Прислушиваясь к неутихающей перестрелке, он добрался до того места, куда ударила первая пулеметная очередь. Там лежали трупы вьетнамцев. Они валялись как попало, словно чья-то гигантская рука бросила их, как игральные кости. Бопре вдруг понял, что не помнит никого из них в лицо и не знает их имен. Ближайший к нему сосал сахарный тростник, и стебель все еще торчал у него изо рта. У лежащего рядом оторвало часть лица - очередь прошила его шею и подбородок. Бопре опять подумал, что прицел был слишком высок. Иначе вышло бы еще хуже. Один солдат лежал на боку, протянув руку ладонью вверх, точно молясь; другой лежал ничком, в безмолвии закрыв глаза, но из его транзистора лилась их тягучая музыка - либо он включил его, умирая, либо держал включенным все время, несмотря на приказ о звукомаскировке.
Бопре пополз дальше. Теперь он увидел Андерсона. Когда в него попали пули, он повернулся и упал навзничь. Его рот был полуоткрыт. Пули попали ему в шею и грудь. Бопре поискал глазами капитана Данга и не увидел его. Черт его дери, он же должен был идти здесь, недалеко от середины колонны. Бопре снова огляделся и тут заметил Данга в нескольких шагах от себя. Данг сидел совершенно неподвижно, по-видимому, он был ранен в ноги и оцепенел от шока, хотя раны вряд ли были серьезными. Бопре вдруг почувствовал, что ему очень нужен молодой вьетнамский лейтенант. Тыонг его зовут. Он огляделся и обругал лейтенанта. Конечно, тоже очумел от страха, все они такие. Он решил подождать одну-две минуты, а потом, если понадобится, отправиться на поиски лейтенанта. И тут он увидел Тыонга, который медленно полз к нему.
Бопре сказал Тыонгу, что Андерсон убит, и добавил:
- А от капитана Данга толку ровно столько же.
Лейтенант мягко сказал, что капитан Данг воюет в этой войне очень долго. Этот тихий, спокойный ответ в момент, когда они прижимались в земле, спасаясь от пуль, тронул Бопре. Лейтенант добавил:
- Простите, капитан, но я не думаю, что нам будет оказана помощь.
Бопре снял с Андерсона рацию и связался с КП.
Дежурный уже получил от вьетнамцев сообщение о засаде и считал, что Бопре и Андерсон оба убиты.
- Я пока жив,- сказал Бопре.
- Мы чертовски этому рады,- сказал дежурный.- Оставайтесь там, слышите? Мы скоро пришлем помощь.
- Помощь нужна немедленно. Что вы пришлете?
- Вертолеты вылетели полчаса назад обратно в Соктранг и вряд ли вернутся. Большая часть резерва уже введена в бой, причем Ко опасается еще более крупной засады. Он очень нервничает,- сказал дежурный.
- Соврите ему что-нибудь.
- Потери тяжелые?
- Не знаю. Впрочем, тяжелые. У меня тяжелые. Неужели вы ничего не можете прислать? А "Т-28"?
Дежурный объяснил, что у одного из самолетов забарахлил мотор и они оба улетели в Бьенхоа.
- Пришлите один,- сказал Бопре.
- Они любят летать попарно,- сказал дежурный.- Они не любят одиночных полетов. Военно-воздушные силы относятся к этому очень болезненно.
- И я к этому отношусь болезненно,- сказал Бопре.
Наступила пауза, потом дежурный спросил:
- Продержитесь?
- Сообщу вам позднее,- сказал Бопре.
- Послушайте,- сказал дежурный,- если я был резок, то извините. Это вышло случайно. Я знаю, каково вам сейчас. Договорились?
- Договорились,- сказал Бопре.- Я понимаю.
"Черт подери,- подумал он.- Они и вправду поставили на мне крест. Ему хочется очистить совесть".
Бопре прислушался и услышал только очереди коммунистов.
- Прикажите им открыть огонь! - взвизгнул он, обращаясь к лейтенанту.- Неужели вы не можете заставить их сделать даже это? Что они за люди, черт их дери!
Возможно, Бопре ошибся, но ему показалось, что он уловил на лице лейтенанта сочувствие. Возможно, он слишком явно выдал свой собственный страх.
- Я тоже не хочу умереть здесь, капитан,- сказал лейтенант.
***
Когда началась стрельба, Тыонг шел в хвосте колонны. Он упал на землю и перекатился за деревья, еще не зная, могут ли они послужить укрытием, но ему не удавалось определить, откуда стреляют, и он хотел только одного: распластаться на земле. Сообразив, что нападению подверглась голова колонны, он начал медленно ползти туда. Так он добрался до радиста. Рация все еще работала, но радист не двигался. Тыонг подполз, взял рацию и повернул налево за деревья, потому что где-то рядом просвистели пули.
- Мы попали в засаду, мы попали в засаду,- сказал он.
- Вы уверены?- спросили из штаба.
- Да,- сказал он бесстрастно.- Я уверен. Мы попали в засаду. Потери тяжелые.
Его голос был слишком спокоен, почти равнодушен. Дежурный его не узнал, Тыонг редко разговаривал по радио.
- А где Нгуен?- спросил дежурный про радиста.
- Нгуен убит,- ответил Тыонг, не зная, насколько его слова соответствовали истине. Он ведь даже не пощупал пульс.
По радио назвали пароль, и Тыонг растерялся. Он редко пользовался рацией и забыл отзыв. В конце концов он все-таки его припомнил, а затем сказал:
- Мы не вьетконговцы. Мы не вьетконговцы. Но мы попали в засаду.
- Мы хотели удостовериться,- сказал дежурный, а потом попросил подождать.
Вскоре он передал от имени Ко и начальника провинции, что они ничем не могут им помочь, поскольку американцы сделали глупость, отправив вертолеты на базу, а их истребители по обыкновению бездействуют. Надо оставаться на месте и ждать развития событий. Может быть, нужна артиллерийская поддержка? Пусть остаются на месте: начальник провинции проверил, они находятся в радиусе действия батарей.
- Нет,- ответил Тыонг, испугавшись.- Не надо артиллерии. Поблагодарите начальника провинции.
"Начальник провинции,- подумал он,- любит обстреливать из своих орудий всю местность, но мы не окопались, а вьетконговцы окопались".
- Хорошо,- сказал дежурный и опять попросил подождать. Вернувшись, он сказал, что начальник провинции просит лейтенанта передать капитану Дангу, что он питает к капитану Дангу самое горячее уважение и восхищение, и напомнить ему, что орудий у них очень много.
- Отлично,- сказал Тыонг и, передав рацию солдату, вернулся в хвост колонны.
Стрельба все еще была очень интенсивной, но доносилась она не с тыла, и это его тревожило. Он отобрал двух человек, которые ничего не делали (это было просто, так как они все ничего не делали) - одного с автоматом и другого с карабином,- и, отведя их в самый конец колонны, приказал им смотреть в оба. Что бы ни происходило в голове колонны, они не должны оборачиваться. Это приказ, а если их заколют в спину, он, Тыонг, берет ответственность на себя, а они будут Героями Республики, если кто-нибудь останется в живых, чтобы представить их к награде. Оба солдата кивнули, Тыонг был уверен, что, защищаясь, они будут драться хорошо. Во всяком случае, если им зайдут в тыл, отряд теперь будет предупрежден за несколько минут. Обеспечив таким образом тыл, он пополз обратно к центру колонны.
Его удивляло, что он больше не испытывал страха. Он словно предвидел именно эту засаду, и то, что солдаты не будут отвечать на огонь противника, и то, что отряд останется без командира. Он давно ожидал чего-то подобного, собственно говоря, до сих пор ему просто отчаянно везло, слишком часто им удавалось избежать опасности, слишком много других подразделений попадало в засады и гибло в то время, как его собственная рота отделывалась легкими потерями. Казалось, он смотрит на войну со стороны, как зритель, а не участвует в ней. Собственно говоря, когда началась стрельба, у него возникла мысль переправиться через канал и дезертировать. Он же с самого начала наблюдал, как удивительно глупо развертывалась эта операция - этап за этапом, глупость за глупостью. Они шли прямо в приготовленную для них ловушку, и теперь ловушка захлопнулась.
Он полз к середине колонны, все больше углубляясь в зону обстрела и двигаясь все медленней. Он различил очереди из пулемета и из автомата и предположил, что они должны подкреплять винтовочные залпы. Его удивляло, почему засада ограничилась только этим и не открыла сразу огонь из автоматов, и он с беспокойством думал: когда же вьетконговцы ударят в полную силу? Наконец Тыонг добрался до того места, по которому били пулемет и автомат противника, заставляя его солдат прижиматься к земле. Он полз вперед дюйм за дюймом, каждую секунду ожидая пулю. Он уже понял, что хвост колонны пострадал не очень сильно, но теперь он увидел перед собой лежавшие вповалку трупы, и к горлу у него подступила тошнота. Он увидел тех, кто был жив,- они пытались укрыться за еле заметными неровностями почвы, на их лицах были написаны страх и растерянность, и они старательно избегали взгляда лейтенанта. В эту минуту впереди раздались ответные выстрелы, и он решил, что, скорее всего, это толстый американец. Он прополз мимо двух солдат, скорчившихся за деревом. Он крикнул, чтобы они стреляли, но они не пошевелились. Тогда он повторил свое распоряжение тоном приказа, и один из солдат спросил, где капитан Данг.
- Я капитан Данг,- ответил Тыонг.
Он поднял карабин, дважды выстрелил у них над головами и предупредил, что, если они не начнут стрелять сейчас же, остальную обойму он выпустит в них. Подкрепляя слово делом, он выстрелил еще раз - в землю у их лиц. И они начали стрелять так злобно, как будто, стреляя через канал, на самом деле стреляли в него, но постепенно они вошли в ритм. Тыонг обнаружил, что он уже больше не зритель, а участник: он принимал решения, он хотел жить и убивать.
Он почти достиг центра колонны, где было больше всего потерь. Тут все еще слышались тихие, приглушенные стоны, точно музыкальный фон для очередей вьетконговцев и отдельных ответных выстрелов. Он увидел перед собой тела шестерых молодых солдат. Одних он знал, других - нет. Среди них оказался солдат, у которого он утром проверял медицинскую сумку. И тут же он осознал, что нынешний вечер, если только они вернутся в Мито, будет одним из тех ужасных вечеров, когда их опередит весть, сообщенная по живому телеграфу, и у госпиталя соберется огромная толпа жен, которые придут, чтобы стать вдовами, придут причитать и просить тела погибших и будут причитать, даже если их мужья остались живы. Почти все будут стоять с детьми - по пятеро-шестеро детей у каждой,- будут стоять шумной, но терпеливой толпой. Они прождут всю ночь, и, когда наступит утро, они все еще будут стоять у входа в приемную батальонного командира, стоять и ждать, чтобы им объяснили их будущее: что с ними будет теперь, куда им идти, как жить. Вот эту обязанность Данг всегда очень охотно передает ему, и он будет объяснять, то и дело умолкая, чтобы дать утихнуть их слезам и воплям, что будущее их, собственно говоря, не предусмотрено, что им следует разойтись по домам и что им причитаются кое-какие деньги, хотя, если говорить честно, деньги эти иногда запаздывали, и он знал, что маленькое пособие, когда наконец оно будет получено, все уйдет на оплату долгов. Торговцы сразу поймут, кто жена, а кто вдова и кому какой предоставить кредит. Торговцы сталкиваются со всем этим часто, и глаз у них наметанный.
Продолжая ползти, Тыонг увидел сбоку трех солдат, которые были живы, хотя, возможно, и ранены, они сидели неподвижно, парализованные шоком.
- Стреляйте!- крикнул он.- Стреляйте, а то придется вам лежать вместе вот с этими! Они были вашими товарищами! Разве вам это безразлично? Безразлично? Что вы за люди?
Впереди толстый американский капитан стоял на коленях возле трупа, по-видимому молодого американца. Тыонг немного было успокоился, когда впереди раздались выстрелы: во всяком случае, американец заставил стрелять. Но теперь, когда он увидел лицо капитана, уверенность пропала. По лицу капитана струился пот, его глаза остекленели, голос был визгливым и сиплым. И он кричал на Тыонга. Тыонг не мешал капитану кричать несколько минут, как ему показалось ("Эти сукины дети не хотят отстреливаться, неужели вы не можете с ними сладить, не можете заставить их драться; проклятый Данг сбежал; проклятая армия, проклятая страна!"), а потом попробовал успокоить человека, который теперь заменял командира. Он старался внушить Бопре веру в солдат и заставить его забыть о Данге.
- Простите, капитан,- сказал он.- Но я не думаю, что нам будет оказана помощь. По-видимому, мы предоставлены сами себе.
***

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Разведывательная группа с шумом шла вдоль главного канала. Впереди показалась небольшая поляна. И они вышли на поляну - один, другой и, наконец, все восемь. Они пересекли поляну, весело переговариваясь, и уже почти достигли зарослей, когда вьетконговцы, терпеливо выжидавшие появления остальных, наконец открыли огонь. Огонь был убийственный, рассчитанный на большой отряд: по разведчикам били три пулемета и еще автоматы, предназначенные для уничтожения всей роты, вместо которой на поляну вышло восемь человек. Пятеро из них были убиты наповал, одного ранило, а остальные двое, потеряв голову от страха, присели на корточки, даже не попытавшись как следует укрыться, и сидели так, пока из кустов не появились вьетконговцы. (Это произошло только через несколько минут, так как командир отряда не сразу отдал приказ взять пленных и трофеи, опасаясь ловушки и ответного удара). Наконец приказ был отдан, и вьетконговцы вылезли из канала - они находились так близко от тропы, что были бы сами уничтожены, если бы допустили малейший просчет.
***
Бопре показалось, что стрельба вьетконговцев на малом канале как будто стихает, но тут же раздалась бешеная пальба, которая могла означать только атаку и конец всего. Он заметил, как вздрогнул Тыонг. Затем оба они поняли, что стреляют не здесь, а где-то на главном канале, что стреляют по разведывательной группе. Огонь был очень интенсивный, но ответных выстрелов не было слышно. Потом вдруг все стихло, и они оба решили, что все восемь убиты, иначе быть не могло.
Бопре снова взял рацию, и дежурный по КП ответил, полный дружелюбного участия:
- Будьте спокойны, мы что-нибудь придумаем. Оставайтесь на месте, ребята, мы что-нибудь придумаем. Мы только что разговаривали с Бьенхоа и добьемся этого для вас, будьте спокойны.
Бопре начал торопить его и выслушал выговор:
- Мы не можем выслать их быстрее, чем получим сами. Они за вами, и ваша очередь первая. Это уже точно, так что ждите. И захватите нам пару пленных.
Противник продолжал вести огонь, но теперь отвечали и их солдаты. Лейтенант, который как будто успокоился, вернулся и сообщил, что минометный расчет был убит первой же очередью.
- От минометов тут все равно толку никакого,- сказал Бопре.
Он прополз обратно к центру смерти, разыскивая оружие. Наткнувшись на новый гранатомет, он решил взять его. Бопре ненавидел всякие новинки, ненавидел вертолеты, но гранатомет он взял, прикинув, что эта штука может пригодиться. Ему не сразу удалось высвободить гранатомет из-под тела убитого вьетнамца. Он собрал снаряды, сколько мог унести, взял еще карабин и пополз назад, к лейтенанту. Он отдал Тыонгу карабин и автомат и попросил подыскать ему хорошего солдата. Слово "хороший" он произнес с ударением.
Тыонг сделал знак коренастому усатому капралу - наверное из местных, подумал Бопре. Он объяснил свой план. Им известны две огневые точки противника: пулемет на том берегу канала и автомат где-то впереди на их берегу. Лейтенант с группой солдат будет вести интенсивный огонь, а он проберется в голову колонны. После этого лейтенант возьмет одного-двух человек, незаметно переправится через канал и проверит тот берег, он, черт побери, не хочет попадать под огонь какого-нибудь снайпера, еще не обнаружившего себя.
- С вашего разрешения,- сказал лейтенант - мы перед переправой бросим в канал несколько гранат - иногда они прячутся под берегом - и перебьем их, как рыб.
Бопре кивнул. Он был доволен.
Махнув усатому вьетнамцу, Бопре медленно, очень медленно пополз к голове колонны. Когда он прополз примерно половину пути (между трупами по крови и грязи), снова ударил пулемет - так близко, что Бопре решил: конец. Но пули легли сзади, и он оглянулся как раз в ту секунду, когда ранило капрала. Вьетнамец дернулся всем телом и замер, а потом снова пополз. "Прекрасный солдат",- подумал Бопре. Они оба продолжали ползти к голове колонны. Бопре знаками спросил напрала, целы ли у него ноги, и тот засмеялся. Когда Бопре наконец добрался до цели, он вдруг понял, что ничем не прикрыт, и замер. Улыбка не лице капрала сменилась растерянностью, и это заставило Бопре очнуться: солдат не знал, зачем они сюда пробирались, они все полагались на него, и Бопре вспомнил, что его дело не замирать от страха, а командовать. Он взялся за гранатомет.
***
Тыонг отполз от Бопре и двинулся дальше в поисках укрытия, где бы он мог собрать свою группу. Он прополз мимо Андерсона, но потом медленно повернулся и, хотя это место было более открытое, возвратился к мертвому американцу. Среди других мертвецов Андерсон выглядел, точно взрослый среди детей. Тыонг несколько секунд смотрел на американца, не испытывая ни малейшей грусти: это справедливо, пусть и они расплачиваются, пусть и они расплачиваются, пусть и их люди погибают. Но он тотчас опомнился, и ему стало стыдно. Протянув руку, он закрыл американцу глаза, а потом неожиданно для себя прочел старую буддийскую заупокойную молитву - американец так хотел стать своим в этой стране, приобщиться к ней, и это было последнее приобщение. Потом Тыонг отполз в более укрытое место и начал снова стрелять во вьетконговцев.
***
Страх Бопре еще не прошел, но тут прогремела новая очередь, Бопре опять остался цел, и к нему вернулось спокойствие. Где-то сзади стреляли их солдаты, Бопре даже удивился, насколько ровно и непрерывно. Он взял гранатомет и пожалел, что так ругал все эти новшества: чем болтать, куда полезнее было бы научиться стрелять из них. Ролстону гранатометы нравились, и он говорил, что они похожи на дробовики. Бопре откинул вниз приклад, как у дробовика. Пока все шло хорошо. Он запомнил один совет Ролстона: "Не стреляйте прямо в цель - лучше стрелять с небольшим недолетом, тогда осколки делают свое дело наиболее эффективно". Бопре разложил перед собой восемь гранат, похожих на длинные пули. Он решил, что в такой обстановке фактор неожиданности может сыграть существенную роль, значит, надо постараться создать у противника впечатление, будто огонь ведется из полуавтоматического оружия. Он не сомневался, что вьетконговцы еще не видели гранатомета в действии. Гранатометы появились в этой стране совсем недавно, и можно было рассчитывать на психологический эффект. Он пришел к выводу, что вьетконговцев тут мало, иначе от его солдат уже давно ничего не осталось бы. Несомненно, они наткнулись на фланговое охранение основной засады, выставленной на случай обходного маневра.
Бопре навел гранатомет на группу деревьев немного сбоку и впереди от того места, где, по его расчетам, находилась пулеметная точка. Он мысленно представил себе цель, чтобы затем стрелять интуитивно, не тратя лишнего времени. Он встал, держа гранатомет, и выстрелил чуть ближе цели; затем несколько томительных секунд спустя пальцами, непослушными от страха, он снова нажал на спуск и услышал, как рвутся одна за другой гранаты. Почувствовав себя уверенней, он выстрелил опять, на этот раз прицелившись чуть правее. Позади себя он услышал усилившийся шум (или просто теперь он слышал лучше?) и почувствовал, что вьетнамцы берутся за дело. Страх его стал спадать, пальцы задвигались уверенней, и он выпустил по цели еще две гранаты. Страх почти совсем прошел, и он мысленно сказал "спасибо" технике и Макнамаре.
Он знал, что ему повезло: гранаты взорвались примерно там, где он хотел. Он был уверен, что противник понес потери, но не сомневался, что в живых еще остались люди, способные стрелять. Он выпустил новую гранату на случай еслии бы кто-то попробовал подняться на ноги. Он был уверен, что вьетконговцы не собирались вести открытый бой. Они хотели устроить засаду и убивать, убивать безнаказанно. Они тоже, как все прочие, хотели получить, ничего не давая взамен, но, столкнувшись с новым опасным оружием, будут теперь очень осторожны.
Позади него солдаты стреляли регулярно и уверенно. Не было уже никакой паники.
Пулемет противника замолчал. Когда Бопре стрелял из гранатомета, пулемет еще действовал, но теперь он молчал. Автомат впереди еще стрелял, однако Бопре был спокоен: там услышат, что пулемет прекратил огонь, и изменят тактику. Он все еще не знал, где находится эта точка. Канал впереди сворачивал немного вправо. Следовательно, они не могут быть у самого берега, канал - плохой путь для отступления, так как в воде их легко забросать гранатами. Нет, вьетконговцы попробуют отойти по суше, решил он. В сопровождении усатого вьетнамца Бопре пополз дальше, стараясь определить, в каком месте могли засесть вьетконговцы. Примерно в пятидесяти ярдах впереди виднелись густые кусты. Местность мало подходила для контрзасады; будь у него в распоряжении американские солдаты, еще можно было бы попробовать, но с вьетнамцами ничего не выйдет. Он выпустил по гранате в левый и правый край кустов и прислушался к взрывам. Ему показалось, что второй взрыв прозвучал глуше, чем первый, и до него как будто донесся сдавленный стон, чей-то словно проглоченный вопль, только чуть-чуть вырвавшийся наружу. Он снова выстрелил в правый край кустов. Потом, отложив гранатомет, взял автомат и связку ручных гранат. Махнул усатому вьетнамцу, и они поползли к кустарнику. Вьетнамец полз слева и немного впереди, а Бопре прикрывал огнем его и себя. Это отнимало много времени и сил, и Бопре устал от невероятного напряжения. Во рту было сухо, но не так, как прежде,- не от жары (о жаре он забыл), а от страха. Он устал, и ему все опротивело. Ему хотелось встать во весь рост и пойти прямо на кусты. Но это было глупо, так воюют только в кино. И Бопре продолжал ползти. Из кустов никто не стрелял. Когда до них оставалось только двадцать ярдов, Бопре сделал вьетнамцу знак остановиться и бросил гранату. Немного подождал, а затем потому что был стар и боялся - бросил еще одну. После этого они с вьетнамцем медленно поднялись и пошли к кустам. Ни людей, ни оружия они там не нашли, только небольшое кровавое пятно. Бопре оставил капрала на месте, а сам прошел еще шагов десять вперед и, раздвинув ветки, вдруг увидел перед собой противника - солдата в черных шортах, без рубашки. Они уставились друг на друга в полном изумлении. Их разделяло не более пятнадцати ярдов, и в это мгновение Бопре увидел карабин возле солдата, увидел огромную рваную рану на ноге, увидел, как он жалок и изможден ("Вот такие сволочи и делают все это,- подумал он,- вот такие проклятые заморыши"), увидел страх, появившийся на лице врага, поднял автомат и расстрелял в солдата всю обойму.
***
Бопре решил, что война на сегодня окончена. Он разогнул спину и тяжело перевел дух. У него пересохло в горле, сердце бешено колотилось. Оставив капрала в кустах, он вернулся к отряду и жестами послал еще троих солдат, велев им обыскать кусты. Он стоял, смотрел через канал и ждал. Наконец он увидел молодого вьетнамского лейтенанта и крикнул, чтобы он еще пошарил на том берегу. Лейтенант поднял вверх оба больших пальца. Бопре сначала не понял, но потом широко улыбнулся и сделал то же. "Валяй, старик, задай им перцу",- подумал он.
Он вернулся к рации и вызвал КП. Дежурный заговорил таким бодрым тоном, что Бопре подумал, не нарвался ли он по ошибке на радиоконферанс. Бопре сообщил, что вьетконговцы, по его мнению, ушли и сегодня больше не вернутся. Дежурный спросил, сколько вьетконговцев он уничтожил, пояснив виноватым тоном, что Сайгон торопит с цифрами. Бопре, конечно, понимает, день был тяжелый, и им важен итог. Бопре подумал и сказал, что убил одного-двух человек. Дежурный спросил: двух или не двух?
- Передайте им: одного-двух,- упрямо повторил Бопре.- Пусть заведут новую графу.
- Да-да,- сказал дежурный.- Я понимаю.
Он попросил Бопре подождать минуту и вскоре объявил прежним бодрым тоном, что они только что разговаривали с Бьенхоа и самолеты отправлены. Они уже в пути. Ему же нужны самолеты. В Бьенхоа сожалеют, что не могли отправить их раньше, но теперь они в его распоряжении.
- Мне они не нужны,- ответил Бопре,- но я знаю, куда их нужно послать.
- Куда?
Он сообщил координаты того места на главном канале, где погибла разведывательная группа.
- У вас там есть наблюдатели?
- Нет. Теперь уже нет.
- Куда же вы хотите, чтоб мы их послали? - спросил дежурный.
- Я хочу, чтобы они пролетели над всей этой проклятой местностью. Там, где нас хотели подкараулить, и севернее. Они, наверно, уходят на север. Скажите летчикам, чтобы они уничтожили все, что движется в белых пижамах, черных пижамах, совсем без пижам. Пусть убивают без разбора. Я отвечаю.
- Хорошо,- сказал дежурный.- Раз вам так хочется.
Позади него суетились вьетнамцы. Он подошел к телу Андерсона, снял с него флягу и отхлебнул большой глоток воды. Потом посмотрел его документы. Оказывается, ему было двадцать пять лет, хотя он всегда говорил, что ему двадцать семь. Членский билет какого-то клуба выпускников Вест-Пойнта. Фотография жены - молоденькой миловидной женщины, так раздражавшей Бопре. Письмо жены, оканчивавшееся словами "...Целую тебя крепко-крепко. Я так счастлива, что я твоя жена, хоть ты и не со мной сейчас. Я чувствую себя счастливей всех остальных женщин, хотя их мужья с ними". Бопре сложил письмо и сунул себе в карман. Ему было немного стыдно, потому что он завидовал только порядочности Андерсона, его несчастной порядочности. Он сел и прислонился спиной к дереву. Кора под его лопатками была изжевана пулеметными пулями. Повернув голову, он увидел, что к нему идет молодой вьетнамский лейтенант. Его лицо как-то странно морщилось. Бопре вдруг сообразил, что морщится он от боли, и впервые заметил его прихрамывающую походку. Тыонг подошел и сел рядом, никогда прежде он этого не делал.
- Ранены?- спросил Бопре.- Дайте-ка я погляжу.
- Нет,- сказал Тыонг.- Я наступил на ловушку с колышком. По глупости.
- В следующий раз будьте осторожней,- сказал Бопре.
- Да, в следующий раз нам всем следует быть осторожнее.
Они просидели рядом несколько минут. После боя, как и во время боя, время трудно определять: пять минут словно пять часов, пять часов - как пять дней. Наконец Тыонг, уже не думая о том, кто на него смотрит, начал осторожно стаскивать с ноги ботинок. Бопре следил за ним, понимая, какую он испытывает боль. Наконец ботинок был снят. На ступне запеклась кровь. Нога была белая, как у статуи мадонны. Бопре видел, как лейтенант, сжав зубы, надавил на пятку.
- Нам повезло,- сказал Тыонг.- Мы ведь наткнулись только на форпост засады.
- Да,- сказал Бопре.- Нам повезло.
Он продолжал смотреть, как Тыонг очистил рану и снова надел ботинок, потом отошел к солдатам и начал что-то говорить, указывая на трупы.
Сначала живые только смотрели на него, им не хотелось прикасаться к мертвым.
- Сделайте это для них! Это последнее и самое малое, что вы можете для них сделать!
Тыонг кричал, и в конце концов живые начали подбирать мертвых. Они укладывали в ряд тела своих убитых товарищей. И там положили Андерсона.
В небе появились два "Т-28" и бреющим полетом прошли над главным каналом. Бопре услышал взрывы и зажег лиловую дымовую шашку, чтобы показать свое местонахождение. Самолеты покачали крыльями, давая знать, что сигнал замечен. "Чистоплюи,- подумал Бопре.- Теперь вернутся на базу и станут хвастать, как здорово они воюют".
Андерсона, собственно говоря, должны были нести вьетнамцы, но Бопре, злясь на себя, подошел и взвалил тело на плечо. Форма его покрылась пятнами от крови лейтенанта. Тыонг продолжал кричать на солдат, и они одного за другим подобрали мертвых. Вскоре Тыонг подошел к Бопре и сказал, что солдаты очень озабочены и обеспокоены и просили его поговорить с ним. Они хотят знать, поедут ли они на грузовиках, или им придется добираться домой пешком. Они очень обеспокоены.
- Мы поедем,- сказал Бопре.- Скажите им, чтобы не волновались.
Тело лейтенанта казалось очень тяжелым, и Бопре начал отставать - пусть впереди идет кто-нибудь другой. Вьетнамцы уже снова пошли кое-как, смеялись и болтали. Даже те, кто нес убитых. "Одна надежная граната сержанта Шаусса,- подумал Бопре,- уложит их всех". Он взглянул на часы: скоро два. К трем часам - при удаче - они соединятся с другими отрядами и поедут обратно в Мито. "Как все это бессмысленно,- думал он.- Ни преследования, ни погони. В эту же ночь вьетконговцы перегруппируются и опять будут делать все, что им заблагорассудится". Конечно, он знал, что по уставу противника полагалось преследовать, но ведь вьетнамцев не заставишь. Хорошо хоть, что ему удастся доставить на базу не только мертвых, но и живых. Да и вообще он устал и был рад, что остался в живых, что преследовать противника бессмысленно и что некому принудить его вьетнамцев преследовать врага. Все равно они не найдут вьетконговцев. И ему тоже вовсе не хочется охотиться за ними и ночевать в какой-нибудь деревушке, где без защитной сетки его заживо съедят москиты. Он хочет ночевать в семинарии, и лечь в чистую постель, и ругать себя за то, что они не преследовали противника, и думать о тех восемнадцати месяцах, которые еще осталось ему прослужить до двадцатилетнего срока.
На сегодня война для него кончилась, и он был рад. Ему пришло в голову, что вьетнамский лейтенант Тыонг вел себя очень хорошо, а вот Данга он не видел с начала боя. Сегодня - впервые за все время - он увидел врага. После этих месяцев он наконец увидел одного вражеского солдата. "Маленькие люди, а сколько от них шума",- подумал он.
Бопре теперь шел медленно - невысокий толстяк, обремененный почти непосильной ношей,- но походка у него стала чуть ли не грациозной оттого, что приходилось осторожно ступать. Большой Уильям и Андерсон - в один день. Да, вьетконговцы наседают. Он вспомнил, что ему предстоит написать жене лейтенанта, и прикинул, что он ей скажет. Что ее муж был хорошим офицером и беззаветно любил ее, что он умер во время марша в жару... Нет, не так: он погиб в бою, да, именно в бою. Но где? Под Аптханьтхой, сразу за Аптханьтхой, но тут же он сообразил, что придумал неудачно: ей было известно, где находится Аптханьтхой.

***
Бопре показалось, что стрельба вьетконговцев на малом канале как будто стихает, но тут же раздалась бешеная пальба, которая могла означать только атаку и конец всего. Он заметил, как вздрогнул Тыонг. Затем оба они поняли, что стреляют не здесь, а где-то на главном канале, что стреляют по разведывательной группе. Огонь был очень интенсивный, но ответных выстрелов не было слышно. Потом вдруг все стихло, и они оба решили, что все восемь убиты, иначе быть не могло.
Бопре снова взял рацию, и дежурный по КП ответил, полный дружелюбного участия:
- Будьте спокойны, мы что-нибудь придумаем. Оставайтесь на месте, ребята, мы что-нибудь придумаем. Мы только что разговаривали с Бьенхоа и добьемся этого для вас, будьте спокойны.
Бопре начал торопить его и выслушал выговор:
- Мы не можем выслать их быстрее, чем получим сами. Они за вами, и ваша очередь первая. Это уже точно, так что ждите. И захватите нам пару пленных.
Противник продолжал вести огонь, но теперь отвечали и их солдаты. Лейтенант, который как будто успокоился, вернулся и сообщил, что минометный расчет был убит первой же очередью.
- От минометов тут все равно толку никакого,- сказал Бопре.
Он прополз обратно к центру смерти, разыскивая оружие. Наткнувшись на новый гранатомет, он решил взять его. Бопре ненавидел всякие новинки, ненавидел вертолеты, но гранатомет он взял, прикинув, что эта штука может пригодиться. Ему не сразу удалось высвободить гранатомет из-под тела убитого вьетнамца. Он собрал снаряды, сколько мог унести, взял еще карабин и пополз назад, к лейтенанту. Он отдал Тыонгу карабин и автомат и попросил подыскать ему хорошего солдата. Слово "хороший" он произнес с ударением.
Тыонг сделал знак коренастому усатому капралу - наверное из местных, подумал Бопре. Он объяснил свой план. Им известны две огневые точки противника: пулемет на том берегу канала и автомат где-то впереди на их берегу. Лейтенант с группой солдат будет вести интенсивный огонь, а он проберется в голову колонны. После этого лейтенант возьмет одного-двух человек, незаметно переправится через канал и проверит тот берег, он, черт побери, не хочет попадать под огонь какого-нибудь снайпера, еще не обнаружившего себя.
- С вашего разрешения,- сказал лейтенант - мы перед переправой бросим в канал несколько гранат - иногда они прячутся под берегом - и перебьем их, как рыб.
Бопре кивнул. Он был доволен.
Махнув усатому вьетнамцу, Бопре медленно, очень медленно пополз к голове колонны. Когда он прополз примерно половину пути (между трупами по крови и грязи), снова ударил пулемет - так близко, что Бопре решил: конец. Но пули легли сзади, и он оглянулся как раз в ту секунду, когда ранило капрала. Вьетнамец дернулся всем телом и замер, а потом снова пополз. "Прекрасный солдат",- подумал Бопре. Они оба продолжали ползти к голове колонны. Бопре знаками спросил напрала, целы ли у него ноги, и тот засмеялся. Когда Бопре наконец добрался до цели, он вдруг понял, что ничем не прикрыт, и замер. Улыбка не лице капрала сменилась растерянностью, и это заставило Бопре очнуться: солдат не знал, зачем они сюда пробирались, они все полагались на него, и Бопре вспомнил, что его дело не замирать от страха, а командовать. Он взялся за гранатомет.
***
Тыонг отполз от Бопре и двинулся дальше в поисках укрытия, где бы он мог собрать свою группу. Он прополз мимо Андерсона, но потом медленно повернулся и, хотя это место было более открытое, возвратился к мертвому американцу. Среди других мертвецов Андерсон выглядел, точно взрослый среди детей. Тыонг несколько секунд смотрел на американца, не испытывая ни малейшей грусти: это справедливо, пусть и они расплачиваются, пусть и они расплачиваются, пусть и их люди погибают. Но он тотчас опомнился, и ему стало стыдно. Протянув руку, он закрыл американцу глаза, а потом неожиданно для себя прочел старую буддийскую заупокойную молитву - американец так хотел стать своим в этой стране, приобщиться к ней, и это было последнее приобщение. Потом Тыонг отполз в более укрытое место и начал снова стрелять во вьетконговцев.
***
Страх Бопре еще не прошел, но тут прогремела новая очередь, Бопре опять остался цел, и к нему вернулось спокойствие. Где-то сзади стреляли их солдаты, Бопре даже удивился, насколько ровно и непрерывно. Он взял гранатомет и пожалел, что так ругал все эти новшества: чем болтать, куда полезнее было бы научиться стрелять из них. Ролстону гранатометы нравились, и он говорил, что они похожи на дробовики. Бопре откинул вниз приклад, как у дробовика. Пока все шло хорошо. Он запомнил один совет Ролстона: "Не стреляйте прямо в цель - лучше стрелять с небольшим недолетом, тогда осколки делают свое дело наиболее эффективно". Бопре разложил перед собой восемь гранат, похожих на длинные пули. Он решил, что в такой обстановке фактор неожиданности может сыграть существенную роль, значит, надо постараться создать у противника впечатление, будто огонь ведется из полуавтоматического оружия. Он не сомневался, что вьетконговцы еще не видели гранатомета в действии. Гранатометы появились в этой стране совсем недавно, и можно было рассчитывать на психологический эффект. Он пришел к выводу, что вьетконговцев тут мало, иначе от его солдат уже давно ничего не осталось бы. Несомненно, они наткнулись на фланговое охранение основной засады, выставленной на случай обходного маневра.
Бопре навел гранатомет на группу деревьев немного сбоку и впереди от того места, где, по его расчетам, находилась пулеметная точка. Он мысленно представил себе цель, чтобы затем стрелять интуитивно, не тратя лишнего времени. Он встал, держа гранатомет, и выстрелил чуть ближе цели; затем несколько томительных секунд спустя пальцами, непослушными от страха, он снова нажал на спуск и услышал, как рвутся одна за другой гранаты. Почувствовав себя уверенней, он выстрелил опять, на этот раз прицелившись чуть правее. Позади себя он услышал усилившийся шум (или просто теперь он слышал лучше?) и почувствовал, что вьетнамцы берутся за дело. Страх его стал спадать, пальцы задвигались уверенней, и он выпустил по цели еще две гранаты. Страх почти совсем прошел, и он мысленно сказал "спасибо" технике и Макнамаре.
Он знал, что ему повезло: гранаты взорвались примерно там, где он хотел. Он был уверен, что противник понес потери, но не сомневался, что в живых еще остались люди, способные стрелять. Он выпустил новую гранату на случай еслии бы кто-то попробовал подняться на ноги. Он был уверен, что вьетконговцы не собирались вести открытый бой. Они хотели устроить засаду и убивать, убивать безнаказанно. Они тоже, как все прочие, хотели получить, ничего не давая взамен, но, столкнувшись с новым опасным оружием, будут теперь очень осторожны.
Позади него солдаты стреляли регулярно и уверенно. Не было уже никакой паники.
Пулемет противника замолчал. Когда Бопре стрелял из гранатомета, пулемет еще действовал, но теперь он молчал. Автомат впереди еще стрелял, однако Бопре был спокоен: там услышат, что пулемет прекратил огонь, и изменят тактику. Он все еще не знал, где находится эта точка. Канал впереди сворачивал немного вправо. Следовательно, они не могут быть у самого берега, канал - плохой путь для отступления, так как в воде их легко забросать гранатами. Нет, вьетконговцы попробуют отойти по суше, решил он. В сопровождении усатого вьетнамца Бопре пополз дальше, стараясь определить, в каком месте могли засесть вьетконговцы. Примерно в пятидесяти ярдах впереди виднелись густые кусты. Местность мало подходила для контрзасады; будь у него в распоряжении американские солдаты, еще можно было бы попробовать, но с вьетнамцами ничего не выйдет. Он выпустил по гранате в левый и правый край кустов и прислушался к взрывам. Ему показалось, что второй взрыв прозвучал глуше, чем первый, и до него как будто донесся сдавленный стон, чей-то словно проглоченный вопль, только чуть-чуть вырвавшийся наружу. Он снова выстрелил в правый край кустов. Потом, отложив гранатомет, взял автомат и связку ручных гранат. Махнул усатому вьетнамцу, и они поползли к кустарнику. Вьетнамец полз слева и немного впереди, а Бопре прикрывал огнем его и себя. Это отнимало много времени и сил, и Бопре устал от невероятного напряжения. Во рту было сухо, но не так, как прежде,- не от жары (о жаре он забыл), а от страха. Он устал, и ему все опротивело. Ему хотелось встать во весь рост и пойти прямо на кусты. Но это было глупо, так воюют только в кино. И Бопре продолжал ползти. Из кустов никто не стрелял. Когда до них оставалось только двадцать ярдов, Бопре сделал вьетнамцу знак остановиться и бросил гранату. Немного подождал, а затем потому что был стар и боялся - бросил еще одну. После этого они с вьетнамцем медленно поднялись и пошли к кустам. Ни людей, ни оружия они там не нашли, только небольшое кровавое пятно. Бопре оставил капрала на месте, а сам прошел еще шагов десять вперед и, раздвинув ветки, вдруг увидел перед собой противника - солдата в черных шортах, без рубашки. Они уставились друг на друга в полном изумлении. Их разделяло не более пятнадцати ярдов, и в это мгновение Бопре увидел карабин возле солдата, увидел огромную рваную рану на ноге, увидел, как он жалок и изможден ("Вот такие сволочи и делают все это,- подумал он,- вот такие проклятые заморыши"), увидел страх, появившийся на лице врага, поднял автомат и расстрелял в солдата всю обойму.
***
Бопре решил, что война на сегодня окончена. Он разогнул спину и тяжело перевел дух. У него пересохло в горле, сердце бешено колотилось. Оставив капрала в кустах, он вернулся к отряду и жестами послал еще троих солдат, велев им обыскать кусты. Он стоял, смотрел через канал и ждал. Наконец он увидел молодого вьетнамского лейтенанта и крикнул, чтобы он еще пошарил на том берегу. Лейтенант поднял вверх оба больших пальца. Бопре сначала не понял, но потом широко улыбнулся и сделал то же. "Валяй, старик, задай им перцу",- подумал он.
Он вернулся к рации и вызвал КП. Дежурный заговорил таким бодрым тоном, что Бопре подумал, не нарвался ли он по ошибке на радиоконферанс. Бопре сообщил, что вьетконговцы, по его мнению, ушли и сегодня больше не вернутся. Дежурный спросил, сколько вьетконговцев он уничтожил, пояснив виноватым тоном, что Сайгон торопит с цифрами. Бопре, конечно, понимает, день был тяжелый, и им важен итог. Бопре подумал и сказал, что убил одного-двух человек. Дежурный спросил: двух или не двух?
- Передайте им: одного-двух,- упрямо повторил Бопре.- Пусть заведут новую графу.
- Да-да,- сказал дежурный.- Я понимаю.
Он попросил Бопре подождать минуту и вскоре объявил прежним бодрым тоном, что они только что разговаривали с Бьенхоа и самолеты отправлены. Они уже в пути. Ему же нужны самолеты. В Бьенхоа сожалеют, что не могли отправить их раньше, но теперь они в его распоряжении.
- Мне они не нужны,- ответил Бопре,- но я знаю, куда их нужно послать.
- Куда?
Он сообщил координаты того места на главном канале, где погибла разведывательная группа.
- У вас там есть наблюдатели?
- Нет. Теперь уже нет.
- Куда же вы хотите, чтоб мы их послали? - спросил дежурный.
- Я хочу, чтобы они пролетели над всей этой проклятой местностью. Там, где нас хотели подкараулить, и севернее. Они, наверно, уходят на север. Скажите летчикам, чтобы они уничтожили все, что движется в белых пижамах, черных пижамах, совсем без пижам. Пусть убивают без разбора. Я отвечаю.
- Хорошо,- сказал дежурный.- Раз вам так хочется.
Позади него суетились вьетнамцы. Он подошел к телу Андерсона, снял с него флягу и отхлебнул большой глоток воды. Потом посмотрел его документы. Оказывается, ему было двадцать пять лет, хотя он всегда говорил, что ему двадцать семь. Членский билет какого-то клуба выпускников Вест-Пойнта. Фотография жены - молоденькой миловидной женщины, так раздражавшей Бопре. Письмо жены, оканчивавшееся словами "...Целую тебя крепко-крепко. Я так счастлива, что я твоя жена, хоть ты и не со мной сейчас. Я чувствую себя счастливей всех остальных женщин, хотя их мужья с ними". Бопре сложил письмо и сунул себе в карман. Ему было немного стыдно, потому что он завидовал только порядочности Андерсона, его несчастной порядочности. Он сел и прислонился спиной к дереву. Кора под его лопатками была изжевана пулеметными пулями. Повернув голову, он увидел, что к нему идет молодой вьетнамский лейтенант. Его лицо как-то странно морщилось. Бопре вдруг сообразил, что морщится он от боли, и впервые заметил его прихрамывающую походку. Тыонг подошел и сел рядом, никогда прежде он этого не делал.
- Ранены?- спросил Бопре.- Дайте-ка я погляжу.
- Нет,- сказал Тыонг.- Я наступил на ловушку с колышком. По глупости.
- В следующий раз будьте осторожней,- сказал Бопре.
- Да, в следующий раз нам всем следует быть осторожнее.
Они просидели рядом несколько минут. После боя, как и во время боя, время трудно определять: пять минут словно пять часов, пять часов - как пять дней. Наконец Тыонг, уже не думая о том, кто на него смотрит, начал осторожно стаскивать с ноги ботинок. Бопре следил за ним, понимая, какую он испытывает боль. Наконец ботинок был снят. На ступне запеклась кровь. Нога была белая, как у статуи мадонны. Бопре видел, как лейтенант, сжав зубы, надавил на пятку.
- Нам повезло,- сказал Тыонг.- Мы ведь наткнулись только на форпост засады.
- Да,- сказал Бопре.- Нам повезло.
Он продолжал смотреть, как Тыонг очистил рану и снова надел ботинок, потом отошел к солдатам и начал что-то говорить, указывая на трупы.
Сначала живые только смотрели на него, им не хотелось прикасаться к мертвым.
- Сделайте это для них! Это последнее и самое малое, что вы можете для них сделать!
Тыонг кричал, и в конце концов живые начали подбирать мертвых. Они укладывали в ряд тела своих убитых товарищей. И там положили Андерсона.
В небе появились два "Т-28" и бреющим полетом прошли над главным каналом. Бопре услышал взрывы и зажег лиловую дымовую шашку, чтобы показать свое местонахождение. Самолеты покачали крыльями, давая знать, что сигнал замечен. "Чистоплюи,- подумал Бопре.- Теперь вернутся на базу и станут хвастать, как здорово они воюют".
Андерсона, собственно говоря, должны были нести вьетнамцы, но Бопре, злясь на себя, подошел и взвалил тело на плечо. Форма его покрылась пятнами от крови лейтенанта. Тыонг продолжал кричать на солдат, и они одного за другим подобрали мертвых. Вскоре Тыонг подошел к Бопре и сказал, что солдаты очень озабочены и обеспокоены и просили его поговорить с ним. Они хотят знать, поедут ли они на грузовиках, или им придется добираться домой пешком. Они очень обеспокоены.
- Мы поедем,- сказал Бопре.- Скажите им, чтобы не волновались.
Тело лейтенанта казалось очень тяжелым, и Бопре начал отставать - пусть впереди идет кто-нибудь другой. Вьетнамцы уже снова пошли кое-как, смеялись и болтали. Даже те, кто нес убитых. "Одна надежная граната сержанта Шаусса,- подумал Бопре,- уложит их всех". Он взглянул на часы: скоро два. К трем часам - при удаче - они соединятся с другими отрядами и поедут обратно в Мито. "Как все это бессмысленно,- думал он.- Ни преследования, ни погони. В эту же ночь вьетконговцы перегруппируются и опять будут делать все, что им заблагорассудится". Конечно, он знал, что по уставу противника полагалось преследовать, но ведь вьетнамцев не заставишь. Хорошо хоть, что ему удастся доставить на базу не только мертвых, но и живых. Да и вообще он устал и был рад, что остался в живых, что преследовать противника бессмысленно и что некому принудить его вьетнамцев преследовать врага. Все равно они не найдут вьетконговцев. И ему тоже вовсе не хочется охотиться за ними и ночевать в какой-нибудь деревушке, где без защитной сетки его заживо съедят москиты. Он хочет ночевать в семинарии, и лечь в чистую постель, и ругать себя за то, что они не преследовали противника, и думать о тех восемнадцати месяцах, которые еще осталось ему прослужить до двадцатилетнего срока.
На сегодня война для него кончилась, и он был рад. Ему пришло в голову, что вьетнамский лейтенант Тыонг вел себя очень хорошо, а вот Данга он не видел с начала боя. Сегодня - впервые за все время - он увидел врага. После этих месяцев он наконец увидел одного вражеского солдата. "Маленькие люди, а сколько от них шума",- подумал он.
Бопре теперь шел медленно - невысокий толстяк, обремененный почти непосильной ношей,- но походка у него стала чуть ли не грациозной оттого, что приходилось осторожно ступать. Большой Уильям и Андерсон - в один день. Да, вьетконговцы наседают. Он вспомнил, что ему предстоит написать жене лейтенанта, и прикинул, что он ей скажет. Что ее муж был хорошим офицером и беззаветно любил ее, что он умер во время марша в жару... Нет, не так: он погиб в бою, да, именно в бою. Но где? Под Аптханьтхой, сразу за Аптханьтхой, но тут же он сообразил, что придумал неудачно: ей было известно, где находится Аптханьтхой.

Последний раз редактировалось: Gudleifr (Чт Апр 18, 2024 1:42 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
Ну, раз обстановка не дает выкладывать литературу о Великой Отечественной, то до кучи, т.е. до Биафры - взгляд со стороны Нигерии. Как-то сейчас войны третьего мира выглядят более актуально.
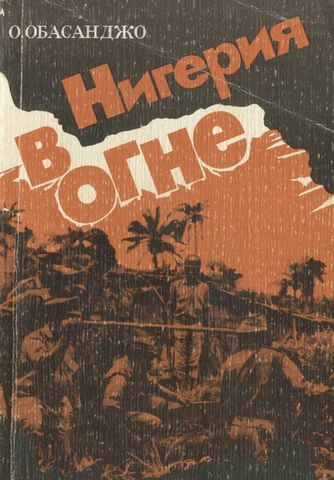
О.ОБАСАНДЖО
НИГЕРИЯ В ОГНЕ
Гражданская война в Нигерии 1967-1970гг. Переводчик Чальян К.Д.
1984
Моим детям, родившимся до и после войны, их матери и неизвестным героям обоих лагерей, павшим в нигерийской гражданской войне, посвящается эта книга.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ Когда эта книга вышла в свет, она вызвала интерес широкой читательской аудитории, но для меня было приятной неожиданностью, что ею заинтересовались и в Советском Союзе.
В октябре 1981г. в Москве, выступая на первой советско-африканской конференции "3а мир и социальный прогресс", организованной Институтом Африки Академии наук СССР, я призвал Советский Союз и африканские страны сломать разделяющие нас барьеры непонимания, удовлетворить взаимный интерес к истории, культуре и социально-экономическому развитию наших народов, наладить широкий обмен правдивой информацией. Я считаю, что это необходимо и для дальнейшего развития нашего сотрудничества, и для того, чтобы положить конец враждебной пропаганде тех сил, которые заинтересованы в создании пропасти между Советским Союзом и Африкой.
У меня нет сомнения в том, что русское издание книги, написанной активным участником нигерийской гражданской войны - войны, в которой поддержка Советским Союзом единства и территориальной целостности Нигерии имела решающее значение,- послужит делу улучшения взаимопонимания между нашими народами. Знаменательно, что сотрудничество, возникшее между нашими странами в те критические дни нигерийской истории, было основано на взаимном уважении взглядов и точек зрения, в наших отношениях не было и намека на политику "выкручивания рук", и я уверен, что и в дальнейшем отношения между Советским Союзом и Африкой будут строиться на этой основе.
Эта книга не является исследованием по истории Нигерии, но она может дать достаточное представление о политическом развитии страны в 60-х гг., о том, как создавалась сегодняшняя Нигерия, о ее современных проблемах и сложных задачах национального строительства в условиях многоукладного африканского общества. Подробно рассмотрены вопросы стратегии и тактики ведения войны в развивающейся стране при постоянной нехватке транспорта, средств связи и тылового обеспечения.
Я надеюсь, что издание этой книги на русском языке поможет советскому читателю больше узнать об африканском континенте, о Нигерии, будет способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом и Африкой в целом и между Советским Союзом и Нигерией в частности.

ВВЕДЕНИЕ
Когда садишься писать книгу о недавнем прошлом, всегда возникают определенные трудности. Всего десять лет отделяют нас от описываемых событий - это и помогает в работе, и затрудняет ее. Сложно писать о важнейшем периоде в жизни страны, не имея возможности увидеть его в исторической перспективе. Живо большинство непосредственных участников событий, что не только позволяет учесть коррективы и комментарии самих действующих лиц, но и накладывает определенные ограничения этического характера. В то же время я уверен, что нанесенные войной раны уже достаточно зажили, чтобы ее активные участники могли беспристрастно оценить происшедшее.
Надеюсь, что моя книга побудит и других участников гражданской войны поделиться своими воспоминаниями, пока прошлое еще живо в их памяти. Грядущие поколения должны иметь ясную и объективную картину событий тех лет; я убежден, что это даст им возможность лучше понять прошлое и, надеюсь, поможет избежать ошибок в будущем.
Эта книга является в основном рассказом о действиях 3-й дивизии морской пехоты, которой я командовал на последнем этапе гражданской войны. Военные и гражданские лица упоминаются в тех званиях и должностях, которые они занимали во время описываемых событий. При подготовке работы такого рода неизбежны ошибки: они непреднамеренны, и я о них заранее сожалею.
ПРОЛОГ
Гражданская война в Нигерии началась 6 июля 1967г., положив конец тому шаткому миру, в котором страна жила со дня провозглашения независимости. Гражданская война явилась кульминацией затяжного политического кризиса, причины которого порождены географическими, историческими и демографическими особенностями страны. Переворот и контрпереворот 1966г., нарушив политическое равновесие и уничтожив хрупкие нити доверия, связывавшие основные этнические группы, обострили кризис и сделали его развязку неизбежной. В мае 1967г. федеральное правительство готовило разделение существовавших 4 регионов на 12 штатов, надеясь, что эта мера поможет сохранить единство страны. В ответ на действия правительства руководимый Оджукву [Оджукву, Чуквуэмека Одумегву - родился в ноябре 1933г. в Зунгеру (Северная Нигерия) в семье предпринимателя, ставшего впоследствии одним из самых богатых людей Нигерии. По этнической принадлежности - ибо, по вероисповеданию - католик. Учился в Оксфордском университете. С 1956г.- на военной службе. Окончил английское военное училище в Сандхорсте. После январского переворота Оджукву был назначен губернатором Восточного региона. Занял резко враждебную позицию по отношению к федеральному правительству Я.Говона. В 1970г. после поражения сепаратистов он эмигрировал из Нигерии. В мае 1982г. президент Нигерии Ш.Шагари объявил об амнистии Оджукву, в июне того же года Оджукву вернулся в страну. В январе 1983г. он объявил о своем вступлении в правившую в то время Национальную партию Нигерии.- Прим. перев.] бывший Восточный регион под предлогом того, что разделение на штаты проводилось без предварительных консультаций, объявил себя "независимым государством Биафра".
Первый выстрел гражданской войны был произведен федеральными войсками в полной уверенности, что для того, чтобы раздавить мятежников и восстановить территориальную целостность страны, достаточно провести короткую и решительную военную операцию. Первые несколько дней действительно принесли обнадеживающие результаты. Скоро был занят университетский город Нсукка, но успех не удалось развить из-за упорного сопротивления Биафры, возникших проблем тылового обеспечения, неопытности солдат и офицеров федеральных войск.
К августу 1967г. военные действия распространились и на территорию Среднезападного штата, куда мятежники проникли благодаря сговору с местными властями. Не удовлетворившись победой на Среднем Западе и стремясь подчинить себе всю Нигерию, а возможно, предварительно заручившись поддержкой правительства Западного штата, Оджукву предпринял отчаянное усилие с целью прорваться к Ибадану и Лагосу, опираясь на Виктора Банджо - офицера-йоруба. Федералистам удалось не только остановить наступление на Запад, но и выбить войска мятежников со Среднего Запада и отбросить их за реку Нигер. Одновременно в сентябре-октябре 1967г. федералисты добились большого успеха, захватив северную столицу Биафры Энугу, нефтяной порт Бонни и на юге - Калабар.
Мятежники защищались упорно, получая материальную поддержку из-за границы и пользуясь услугами наемников. Федералисты, надеявшиеся праздновать победу в начале 1968г., несли большие потери, натолкнувшись на отчаянное сопротивление войск Биафры, порожденное страхом физического уничтожения в случае поражения.
К концу 1969г., после почти двух лет кровопролитной и разрушительной войны, предполагаемая легкая победа все еще не была одержана федералистами. Территория, занятая мятежниками, значительно уменьшилась, но Биафра держалась и даже использовала с выгодой для себя сложившееся военное положение. Дипломатические усилия ОАЕ и Содружества наций не привели в прекращению огня и окончанию войны. Сепаратисты добились значительных дипломатических успехов - пять стран признали Биафру в качестве суверенного государства - и решительно отвергали любую мирную инициативу, которая не гарантировала независимости их территории.
А после захвата Оверри мятежники, развивая военный успех, быстро нанесли удар в южном направлении, на Порт-Харкорт. Федералисты теряли и без того слабый контроль над Абой. Моральное состояние федеральных войск достигло низшей точки. Открыто проявлялось нежелание воевать: среди федеральных солдат широко распространилось членовредительство. В офицерском корпусе царили если не откровенно нелояльные настроения, то, во всяком случае, полная апатия. Исчезли взаимное доверие и уважение, дело дошло до того, что офицеры открыто радовались неудачам друг друга. Из-за ограничений, введенных федеральным военным правительством на многие предметы импорта, и стремительно растущей в стране инфляции гражданское население начало проявлять недовольство и затянувшейся войной, и самим правительством. Некоторые видные деятели страны, чтобы предотвратить катастрофу, которой грозила победа мятежников, выступили с требованием заключить мир любой ценой.
Таково было положение дел, когда в мае 1969г. мне было поручено командование 3-й дивизией нигерийской армии. В этой книге изложены события, приведшие к нигерийскому кризису 60-х гг., дан анализ боевых действий до мая 1969г. и описано, как за шесть месяцев удалось ликвидировать атмосферу упадка и дезертирство в моей дивизии и в армий, вернуть войскам боевой настрой и оптимизм, возродить товарищеские взаимоотношения. Это рассказ о том, как павшая духом страна вновь обрела уверенность в себе, как страна, находящаяся на грани полного распада, была воссоединена, а ее раны залечены. Это рассказ о том, как честолюбивый и самоуверенный Оджукву, стремившийся любой ценой стать главой независимого государства, обманул людей, в любви к которым он клялся и которых предал в час тяжких испытаний, бежав из Биафры. Это рассказ о том, как междоусобные разногласия, разжигаемые извне, переросли в братоубийственную войну и как затем недавние враги, перевязав друг другу раны, сами решили внутренние проблемы Нигерии в духе понимания, взаимного уважения, любви и товарищества.
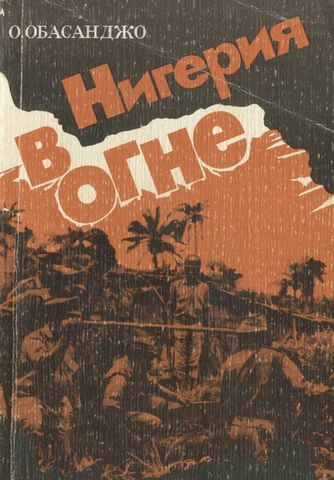
О.ОБАСАНДЖО
НИГЕРИЯ В ОГНЕ
Гражданская война в Нигерии 1967-1970гг. Переводчик Чальян К.Д.
1984
Моим детям, родившимся до и после войны, их матери и неизвестным героям обоих лагерей, павшим в нигерийской гражданской войне, посвящается эта книга.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ Когда эта книга вышла в свет, она вызвала интерес широкой читательской аудитории, но для меня было приятной неожиданностью, что ею заинтересовались и в Советском Союзе.
В октябре 1981г. в Москве, выступая на первой советско-африканской конференции "3а мир и социальный прогресс", организованной Институтом Африки Академии наук СССР, я призвал Советский Союз и африканские страны сломать разделяющие нас барьеры непонимания, удовлетворить взаимный интерес к истории, культуре и социально-экономическому развитию наших народов, наладить широкий обмен правдивой информацией. Я считаю, что это необходимо и для дальнейшего развития нашего сотрудничества, и для того, чтобы положить конец враждебной пропаганде тех сил, которые заинтересованы в создании пропасти между Советским Союзом и Африкой.
У меня нет сомнения в том, что русское издание книги, написанной активным участником нигерийской гражданской войны - войны, в которой поддержка Советским Союзом единства и территориальной целостности Нигерии имела решающее значение,- послужит делу улучшения взаимопонимания между нашими народами. Знаменательно, что сотрудничество, возникшее между нашими странами в те критические дни нигерийской истории, было основано на взаимном уважении взглядов и точек зрения, в наших отношениях не было и намека на политику "выкручивания рук", и я уверен, что и в дальнейшем отношения между Советским Союзом и Африкой будут строиться на этой основе.
Эта книга не является исследованием по истории Нигерии, но она может дать достаточное представление о политическом развитии страны в 60-х гг., о том, как создавалась сегодняшняя Нигерия, о ее современных проблемах и сложных задачах национального строительства в условиях многоукладного африканского общества. Подробно рассмотрены вопросы стратегии и тактики ведения войны в развивающейся стране при постоянной нехватке транспорта, средств связи и тылового обеспечения.
Я надеюсь, что издание этой книги на русском языке поможет советскому читателю больше узнать об африканском континенте, о Нигерии, будет способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между Советским Союзом и Африкой в целом и между Советским Союзом и Нигерией в частности.

ВВЕДЕНИЕ
Когда садишься писать книгу о недавнем прошлом, всегда возникают определенные трудности. Всего десять лет отделяют нас от описываемых событий - это и помогает в работе, и затрудняет ее. Сложно писать о важнейшем периоде в жизни страны, не имея возможности увидеть его в исторической перспективе. Живо большинство непосредственных участников событий, что не только позволяет учесть коррективы и комментарии самих действующих лиц, но и накладывает определенные ограничения этического характера. В то же время я уверен, что нанесенные войной раны уже достаточно зажили, чтобы ее активные участники могли беспристрастно оценить происшедшее.
Надеюсь, что моя книга побудит и других участников гражданской войны поделиться своими воспоминаниями, пока прошлое еще живо в их памяти. Грядущие поколения должны иметь ясную и объективную картину событий тех лет; я убежден, что это даст им возможность лучше понять прошлое и, надеюсь, поможет избежать ошибок в будущем.
Эта книга является в основном рассказом о действиях 3-й дивизии морской пехоты, которой я командовал на последнем этапе гражданской войны. Военные и гражданские лица упоминаются в тех званиях и должностях, которые они занимали во время описываемых событий. При подготовке работы такого рода неизбежны ошибки: они непреднамеренны, и я о них заранее сожалею.
ПРОЛОГ
Гражданская война в Нигерии началась 6 июля 1967г., положив конец тому шаткому миру, в котором страна жила со дня провозглашения независимости. Гражданская война явилась кульминацией затяжного политического кризиса, причины которого порождены географическими, историческими и демографическими особенностями страны. Переворот и контрпереворот 1966г., нарушив политическое равновесие и уничтожив хрупкие нити доверия, связывавшие основные этнические группы, обострили кризис и сделали его развязку неизбежной. В мае 1967г. федеральное правительство готовило разделение существовавших 4 регионов на 12 штатов, надеясь, что эта мера поможет сохранить единство страны. В ответ на действия правительства руководимый Оджукву [Оджукву, Чуквуэмека Одумегву - родился в ноябре 1933г. в Зунгеру (Северная Нигерия) в семье предпринимателя, ставшего впоследствии одним из самых богатых людей Нигерии. По этнической принадлежности - ибо, по вероисповеданию - католик. Учился в Оксфордском университете. С 1956г.- на военной службе. Окончил английское военное училище в Сандхорсте. После январского переворота Оджукву был назначен губернатором Восточного региона. Занял резко враждебную позицию по отношению к федеральному правительству Я.Говона. В 1970г. после поражения сепаратистов он эмигрировал из Нигерии. В мае 1982г. президент Нигерии Ш.Шагари объявил об амнистии Оджукву, в июне того же года Оджукву вернулся в страну. В январе 1983г. он объявил о своем вступлении в правившую в то время Национальную партию Нигерии.- Прим. перев.] бывший Восточный регион под предлогом того, что разделение на штаты проводилось без предварительных консультаций, объявил себя "независимым государством Биафра".
Первый выстрел гражданской войны был произведен федеральными войсками в полной уверенности, что для того, чтобы раздавить мятежников и восстановить территориальную целостность страны, достаточно провести короткую и решительную военную операцию. Первые несколько дней действительно принесли обнадеживающие результаты. Скоро был занят университетский город Нсукка, но успех не удалось развить из-за упорного сопротивления Биафры, возникших проблем тылового обеспечения, неопытности солдат и офицеров федеральных войск.
К августу 1967г. военные действия распространились и на территорию Среднезападного штата, куда мятежники проникли благодаря сговору с местными властями. Не удовлетворившись победой на Среднем Западе и стремясь подчинить себе всю Нигерию, а возможно, предварительно заручившись поддержкой правительства Западного штата, Оджукву предпринял отчаянное усилие с целью прорваться к Ибадану и Лагосу, опираясь на Виктора Банджо - офицера-йоруба. Федералистам удалось не только остановить наступление на Запад, но и выбить войска мятежников со Среднего Запада и отбросить их за реку Нигер. Одновременно в сентябре-октябре 1967г. федералисты добились большого успеха, захватив северную столицу Биафры Энугу, нефтяной порт Бонни и на юге - Калабар.
Мятежники защищались упорно, получая материальную поддержку из-за границы и пользуясь услугами наемников. Федералисты, надеявшиеся праздновать победу в начале 1968г., несли большие потери, натолкнувшись на отчаянное сопротивление войск Биафры, порожденное страхом физического уничтожения в случае поражения.
К концу 1969г., после почти двух лет кровопролитной и разрушительной войны, предполагаемая легкая победа все еще не была одержана федералистами. Территория, занятая мятежниками, значительно уменьшилась, но Биафра держалась и даже использовала с выгодой для себя сложившееся военное положение. Дипломатические усилия ОАЕ и Содружества наций не привели в прекращению огня и окончанию войны. Сепаратисты добились значительных дипломатических успехов - пять стран признали Биафру в качестве суверенного государства - и решительно отвергали любую мирную инициативу, которая не гарантировала независимости их территории.
А после захвата Оверри мятежники, развивая военный успех, быстро нанесли удар в южном направлении, на Порт-Харкорт. Федералисты теряли и без того слабый контроль над Абой. Моральное состояние федеральных войск достигло низшей точки. Открыто проявлялось нежелание воевать: среди федеральных солдат широко распространилось членовредительство. В офицерском корпусе царили если не откровенно нелояльные настроения, то, во всяком случае, полная апатия. Исчезли взаимное доверие и уважение, дело дошло до того, что офицеры открыто радовались неудачам друг друга. Из-за ограничений, введенных федеральным военным правительством на многие предметы импорта, и стремительно растущей в стране инфляции гражданское население начало проявлять недовольство и затянувшейся войной, и самим правительством. Некоторые видные деятели страны, чтобы предотвратить катастрофу, которой грозила победа мятежников, выступили с требованием заключить мир любой ценой.
Таково было положение дел, когда в мае 1969г. мне было поручено командование 3-й дивизией нигерийской армии. В этой книге изложены события, приведшие к нигерийскому кризису 60-х гг., дан анализ боевых действий до мая 1969г. и описано, как за шесть месяцев удалось ликвидировать атмосферу упадка и дезертирство в моей дивизии и в армий, вернуть войскам боевой настрой и оптимизм, возродить товарищеские взаимоотношения. Это рассказ о том, как павшая духом страна вновь обрела уверенность в себе, как страна, находящаяся на грани полного распада, была воссоединена, а ее раны залечены. Это рассказ о том, как честолюбивый и самоуверенный Оджукву, стремившийся любой ценой стать главой независимого государства, обманул людей, в любви к которым он клялся и которых предал в час тяжких испытаний, бежав из Биафры. Это рассказ о том, как междоусобные разногласия, разжигаемые извне, переросли в братоубийственную войну и как затем недавние враги, перевязав друг другу раны, сами решили внутренние проблемы Нигерии в духе понимания, взаимного уважения, любви и товарищества.
Последний раз редактировалось: Gudleifr (Чт Апр 18, 2024 1:45 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА I. ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
До 1900г. на территории, именуемой ныне Нигерией, существовал ряд независимых и зачастую враждебных друг другу государств, отличных по языку и культуре. Губернатор Нигерии с 1920 по 1931г. Хью Клиффорд писал, что Нигерия - "конгломерат независимых туземных государств, разделяемых... значительными расстояниями, особенностями исторического развития и традиций, между которыми стоят этнические, расовые, племенные, политические, социальные и религиозные барьеры" [Nigeria, Legislative Council Debates, Lagos, 1920]. Создание Нигерии как многонационального государства началось с образования в 1900г. Протекторатов Северной и Южной Нигерии и колонии Лагос. Объединение страны было продолжено в 1906г., когда существовавшие до сих пор отдельно Протекторат Южная Нигерия и колония Лагос были преобразованы в Колонию и Протекторат Южной Нигерии. Администрации Северной и Южной Нигерии еще оставались обособленными, непосредственно подчиняясь министерству колоний Англии.
Важнейшим шагом в политическом развитиии Нигерии явилось объединение 1 января 1914г. лордом Лугардом администраций двух частей страны. В целях облегчения управления и в соответствии с экономическими интересами англичан в обеих частях Нигерии были сохранены системы косвенного управления и независимого развития, в то время как центральная администрация располагалась в Лагосе. Такая политика привела, по сути дела, к образованию двух Нигерий, каждая из которых имела свой путь развития, социальную, политическую, экономическую и культурную основу. Конституция 1922г., первая в истории страны, создала Нигерийский законодательный совет, членам которого, однако, не было дано право принимать законы, касающиеся Севера.
Во время второй мировой войны Нигерия была разделена на 4 административные единицы: колонию Лагос и Северный, Восточный и Западный регионы (области). Такое административное деление, предусматривающее усиление автономии Лагоса и трех регионов, было закреплено конституцией Артура Ричардса (1946г.), "основавшей" нигерийский регионализм. Этой акцией был достигнут определенный политический прогресс, выразившийся в интеграции впервые на законодательном уровне Севера и Юга, однако она носила половинчатый характер.
Пробуждение политического самосознания и подъем национализма, начавшиеся после второй мировой войны, привели к изменениям в конституции Ричардса всего через 4 года после ее введения в действие, в 1950г. Она не оправдала надежд и ее создателя. Учитывая то обстоятельство, что политические партии уже сформировались именно на региональной и этнической основе, дальнейший путь развития был очевиден: предстояла полная регионализация. Принятая в 1951г. конституция Макферсона повышала степень невмешательства во внутрирегиональные дела друг друга на базе усиления региональной автономии и законодательных органов регионов. В сложившейся ситуации, когда у центрального правительства остались лишь ограниченные права, внутриполитическое положение Нигерии ухудшилось, поскольку возникла опасность раскола страны на три части (при условии присоединения Лагоса к Западному региону). Обострившиеся в 1953г. противоречия в федеральном правительстве и кровавые столкновения в Кано, вызванные разногласиями о сроках перехода к самоуправлению, еще больше углубили пропасть между регионами, в особенности между Югом и Севером. Впервые на Севере стали открыто говорить о возможности отделения, обвинив центральные власти в оскорбительном отношении к региону. Запад также стал угрожать отделением под предлогом того, что Лагос не был включен в состав Западного региона в соответствии с конституцией 1951г. Конституция 1954г. подтвердила и формально закрепила стремление нигерийских лидеров идти каждому своей дорогой, не вмешиваясь в дела друг друга. Был сделан необратимый выбор между унитарной и федеральной формами правления в пользу федерализма.
После этого события на политической арене стали развиваться стремительно. В 1954, 1957, 1958, 1959 и 1960гг. состоялись конституционные конференции, которые привели к получению Нигерией политической независимости 1 октября 1960г. Начиная с 1954г. основной тенденцией политического развития страны являлось максимальное, вплоть до самоизоляции, укрепление региональной базы каждой крупной партии за счет центральной власти.
То обстоятельство, что комиссия Уиллинка в 1958г. не рекомендовала переходить к дроблению регионов, что соответствовало бы нигерийскому образцу федерализма, создало дополнительные препятствия развитию Нигерии в 50-х гг. Федеральное военное правительство заявило об этом в 1967г.: "При завоевании независимости нашей страной не были решены многие жизненно важные проблемы. Одной их таких кардинальных проблем был вопрос о создании новых штатов, что заложило бы более прочную основу стабильности Федерации Нигерии. Английское правительство указывало тогда, что в случае создания новых штатов потребуется не менее двух лет для их внутреннего укрепления и, таким образом, до предоставления стране независимости".
Все политические лидеры, опирающиеся на сильные региональные базы, ожесточенно сражались за предоставление максимальной власти регионам за счет ослабления центра. Они приходили к власти на гребне трайбализма и невежества людей, жертвуя при этом национальным единством и интересами самого государства. Регионализм, который должен был гарантировать и сохранить национальную целостность, превратился в угрозу для нее. Во всех трех регионах вместо стремления к единству господствовали прямо противоположные настроения. Общим было только обращенное к Великобритании требование о предоставлении стране политической независимости, о чем все нигерийские политические лидеры говорили в один голос, но даже здесь их мнения расходились в вопросе о сроках.
С предоставлением независимости в 1960г. все сложности, которые раньше пытались не замечать, встали на повестку дня. Нигерия столкнулась с целым комплексом острых проблем, порожденных большей частью характером политического деления страны, недостатками действующей федеральной конституции и ошибками в ее применении.
Первые разногласия после достижения независимости возникли из-за оборонительного соглашения между Великобританией и Нигерией, являвшегося "попыткой [со стороны англичан.- Прим. авт.] обманом лишить Нигерию ее суверенитета" [A Reprint of the debate in the Federal House of Representatives on november. Lagos, 1960]. В соответствии с этим соглашением Великобритания и Нигерия договорились "оказывать друг другу такое содействие, какое окажется необходимым в целях взаимной обороны, а также проводить совместные консультации по поводу мер, которые должны быть приняты совместно или порознь, с тем чтобы обеспечить самое тесное сотрудничество между ними" [Ibid]. Это было неравноправное соглашение. Студенческие демонстрации и резкий протест со стороны общественного мнения и оппозиционных членов федерального парламента привели к аннулированию этого пакта в 1962г. Весь эпизод был незначителен по сравнению с последующими бурными политическими событиями, происшедшими в стране, но он достоин упоминания.
В 1962г. кризис в правящей в Западном регионе Группе действия привел к аресту ряда ее лидеров, в том числе лидера оппозиции в федеральном парламенте вождя Обафеми Аволово [Аволово, Обафеми - один из крупнейших политических деятелей Нигерии. По этнической принадлежности - йоруба. В 1950г. создал и возглавил партию Группа действия.- Прим. перев.]. После введения федеральным правительством на Западе непосредственного правления последовало выделение из состава Западного региона Среднезападного региона. К тяжелым последствиям привело объявление о том, что в стране не будет больше создано новых штатов. С 20 мая 1962г. по 15 января 1966г., когда произошел первый военный переворот, Западный регион не знал спокойствия. Арестованным руководителям Группы действия были предъявлены обвинения в государственной измене, подготовке заговора и незаконном ввозе оружия. Они были признаны виновными в сентябре 1963г. и приговорены к срокам заключения от 5 до 15 лет.
Параллельно разразился скандал, вызванный тем, что перепись населения, состоявшаяся в 1962г., была проведена с нарушением норм законности, а ее результатом были такие раздутые цифры, что Восточный регион отказался их признать. В 1963г. была проведена еще одна перепись, но и ее окончательные результаты были приняты с долей сомнения.
Население среднего пояса Севера все более тяготилось властью Северного народного конгресса (СНК). Народ тив открыто бунтовал почти три года (1962-1965гг.).
Самый крупный кризис того периода разразился в связи с федеральными выборами 1964г. Они не были ни свободными, ни честными: правящие партии использовали все мыслимые средства для устранения своих противников. Объединенный великий прогрессивный союз (ОВПС) (альянс партий Национального совета нигерийских граждан и Группы действия) принял решение бойкотировать выборы. Сам председатель избирательной комиссии признал, что были допущены очевидные нарушения.
По результатам выборов, Нигерийский национальный союз (ННС) получил 190 мест, а ОВПС - 40 мест в федеральном парламенте. Однако президент Ннамди Азикиве [Азикиве, Ннамди - первый президент независимой Нигерии (1963-1966гг.), крупный политический деятель страны.- Прим. перев.] отказался предоставить ННС право сформировать правительство. Как президент, так и премьер-министр Абубакар Тафава Балева [Балева, Абубакар Тафава - видный государственный и политический деятель Нигерии, премьер-министр первого суверенного правительства страны (1960-1966гг.). Был убит 15 января 1966г. во время первого военного переворота.- Прим. перев.] искали поддержки у вооруженных сил. В течение 4 дней страна находилась в напряженном ожидании, пока 4 января 1965г. президент не объявил, что он вновь назначил премьер-министром А.Т.Балеву, который сформирует правительство на "широкой национальной основе". Таким образом, это компромиссное решение предотвратило раскол страны, казавшийся неминуемым после всеобщих выборов 1964г.
На региональных выборах в Западной области в 1965г. здравый смысл также не победил. Подтасовки и обман во время этих выборов были еще более бесстыдными. Закон и порядок полностью вытеснила анархия. Отряды наемных бандитов совершали многочисленные поджоги и убийства. Население находилось в постоянном страхе за свою жизнь и имущество. Так обстояли дела, когда произошел переворот 15 января 1966г. Можно смело утверждать, что бикфордов шнур непосредственных причин, породивших этот взрыв, был подожжен на региональных выборах в Западной области в 1965г. Целью переворота, по заявлению его руководителей, являлось "установление сильного, единого и благоденствующего государства, свободного от коррупции и внутренних раздоров".
Результатом этого неудачного переворота явилось нарушение баланса политических сил в стране. Методы проведения переворота и его результаты не соответствовали тем целям, которые провозгласил глава группы заговорщиков майор Нзеогву. Все уничтоженные политические деятели и старшие армейские офицеры были с Севера и Запада, за исключением одного политика со Среднего Запада и офицера восточного происхождения. Переворот ускорил раскол Нигерии. "Федерация была больна с рождения, и к январю 1966г. больной, измученный ребенок свалился" [Kirk-Greene А.Н.Т. Crisis and Conflikts in Nigeria 1967-1970. London, 1971, Vol.I, p.210]. Со дня достижения независимости и по январь 1966г. страна переживала постоянные внутренние потрясения, но после переворота она оказалась на грани катастрофы.
Неумеренные восторги по поводу переворота, которыми он был первоначально встречен, резко прекратились, когда пришедшее к власти правительство генерал-майора А.Дж.Агийи-Иронси обнародовало свою программу. Если бы Иронси проявил больше понимания образа мышления северян, он смог бы составить себе политический капитал на надеждах, рожденных переворотом. Но помимо того, что он не сумел извлечь выгоду из первоначальной благожелательной реакции на события, он не знал, как поступить с арестованными руководителями переворота: обращаться ли с ними, как с героями революции или отправить под военный трибунал как мятежников и убийц. Ограниченность мышления Иронси сковывала его действия, а его советники, занятые собственными проблемами, не оказали ему достаточной помощи.
Благожелательная реакция среди некоторых кругов на Севере сменилась многозначительным молчанием. Недовольство накапливалось постепенно и в мае 1966г. вылилось в беспорядки, начавшиеся после обнародования декрета #34 правительства Иронси - декрета об унификации страны. Этот декрет предусматривал слияние федеральных и региональных гражданских служб, упразднение деления страны на регионы и создание вместо них провинций. Последовавший за беспорядками контрпереворот 29 июля 1966г. имел две цели: месть Востоку со стороны Севера и раздел страны. Однако мудрые советы преданных родине нигерийцев и дружественно настроенных иностранцев предотвратили раскол. После трех напряженных дней, в течение которых в стране господствовало смятение и ею фактически никто не управлял, новым политическим лидером Нигерии с 1 августа 1966г. стал подполковник Якубу Говон. Руководители переворота не пожелали передавать власть бригадному генералу Огундипе, который являлся в то время начальником генерального штаба и, таким образом, самым старшим офицером в отсутствие верховного главнокомандующего. Огундипе, которого заговорщики не признавали, поскольку он был "не из их круга", быстро понял, что он не сможет осуществлять эффективный контроль над армией в ситуации, когда даже какой-то сержант (очевидно, северного происхождения) отказался выполнить его распоряжения и заявил Огундипе, что вообще не намерен получать от него приказы. В царившей тогда неразберихе никто не наказал сержанта за такой серьезный проступок, и это лишний раз заставило Огундипе понять всю бесполезность любой попытки с его стороны взять в свои руки бразды правления государством. Он осознал, что не сможет контролировать крайне осложнившееся и запутанное положение и предотвратить возможное отделение Севера. Огундипе был вынужден добровольно и с явным чувством облегчения поменять пост, который должен был занять, на место посла Нигерии в Великобритании. В то время подполковник Якубу Говон [Говон, Якубу - видный военный и политический деятель Нигерии. По этнической принадлежности - ангас (небольшое племя на севере страны). Кадровый военный, окончил английское военное училище в Сандхорсте. После январского переворота 1966г. был назначен начальником штаба армии в чине подполковника. В августе 1966г. возглавил второе военное правительство. Во время междоусобной войны (1967-1970гг.) стал генералом, председателем Высшего военного совета и главнокомандующим вооруженными силами Нигерии. В 1974г. посетил СССР с официальным визитом.- Прим. перев.] был самым старшим армейским офицером-северянином.
Отсутствие у заговорщиков твердой программы действия в сочетании со стремлением к мщению вылились в хаос, замешательство и волну бессмысленных убийств, прокатившуюся по стране. Даже руководители переворота на смогли остановить беззакония, грабежи и убийства, охватившие Север в сентябре 1966г. В стране воцарилась полнейшая анархия. В обращении по радио к народу Севера в сентябре подполковник Якубу Говон сказал:
"Я ежедневно получаю жалобы, что до сих пор граждане восточного происхождения, живущие на Севере, подвергаются преследованиям, их убивают, а имущество грабят. Творимые беззакония представляются бессмысленными, события начинают носить безумный и безответственный характер" ["NewNigerian", 30 September 1966]. "Дейли таймс" от 28 сентября 1966г. писала: "Сегодня по стране бродит много сумасшедших и находящихся на грани помешательства людей, которые делают, что хотят, не подчиняясь никаким приказам или распоряжениям военных или гражданских властей".
Еще до описываемых событий, 9 августа 1966г., в целях прекращения убийств и сохранения единства страны в какой- либо форме в Лагосе была созвана специальная конференция всех регионов, которая сформулировала следующие рекомендации:
1. Главнокомандующим должны быть предприняты немедленные шаги для перевода личного состава вооруженных сил в казармы, расположенные в регионах, соответствующих этническому происхождению частей.
2. Учитывая особое положение Лагоса, поддержание в нем спокойствия и безопасности должно остаться в ведении главнокомандующего при условии консультаций с военными губернаторами регионов.
3. В течение недели должна быть организована повторная встреча представителей всех областей, в данном или расширенном составе, в целях выработки общих рекомендаций касательно характера будущего политического союза составляющих Нигерию регионов.
4. Должны быть предприняты немедленные шаги для аннулирования или изменения соответствующих положений любого декрета, если он предусматривает излишнюю централизацию.
5. Главнокомандующий должен обеспечить необходимые условия для срочного проведения заседания Высшего военного совета в целях выработки дальнейших мер по ослаблению напряженности в стране.
Первая рекомендация была проведена в жизнь 13 августа 1966г. Солдаты и офицеры восточного происхождения, служившие в разных областях страны, были официально переведены в Энугу, а выходцы из других этнических групп - из Энугу в Кадуну и затем в Лагос, где они составили 6-й батальон нигерийской армии. Эти невинные с виду действия уничтожили последний национальный институт, воплощавший нигерийскую государственность, и окончательно разрушили ту национальную сплоченность, которую политики постоянно испытывали на прочность начиная с 1962г. Разрыв между Восточной областью и остальной частью страны был полным. Большинство граждан восточного происхождения, никогда не живших на Востоке и прочно обосновавшихся в других частях страны, желая обеспечить свою безопасность, переселились на Восток. Многие их них, прибыв на новое место, оказались в собственной стране на положении беженцев.
Больше ни одна из вышеперечисленных рекомендаций не была выполнена полностью, за исключением аннулирования декрета об унификации. Расширенная специальная конституционная конференция начала работу в Лагосе 12 сентября 1966г., (спустя месяц, а не неделю после первой) и прекратила работу в ноябре, не предложив дельного решения назревших проблем.
Выполнение рекомендаций специальной конференции относительно формирования армейских подразделений на региональной основе продолжало осуществляться политическими лидерами Западной области и после того, как оттуда закончился вывод восточных частей. Они боялись доминирования войск Севера на своей территории, очевидно беспокоясь за безопасность частей из Западной области.
Я был самым старшим офицером с Запада, служившим на Севере. Другие офицеры делились со мной своим беспокойством по поводу происходящих событий. Эти настроения особенно усилились после двух трагических случаев. В августе 1966г. солдаты 4-го батальона, дислоцированного в Ибадане, вышли из повиновения и были в полном составе переведены в Кадуну. Чтобы показать свою "храбрость", они начали искать по госпиталям Кадуны офицеров-ибо, чтобы их убить, и одного действительно убили. Они также хотели убить майора Алаби, служившего в батальоне в Ибадане и переведенного в Нигерийский военный колледж в Кадуне после январского переворота 1966г. Военный губернатор и местные офицеры показали себя с самой лучшей стороны и спасли жизнь Алаби, тайно отправив его из Кадуны. Вторым инцидентом были мятежные действия частей под командованием подполковника Адекунле, которые переправляли по железной дороге из Энугу в Лагос через Кадуну. Несколько офицеров-ибо сели на поезд в Кадуне, чтобы через Лагос попасть в Восточную область. Солдатам это не понравилось. Бунт, поднятый группой недисциплинированных солдат, привел к тому, что их командир получил штыковую рану. В дополнение к этому в Лугард-холле регулярно проводились встречи офицеров и гражданских лиц северного происхождения, на которые приглашались даже младшие офицеры, в то время как старшие офицеры из других областей страны приглашений туда не получали.
Соообщения и слухи о таких фактах беспокоили политических лидеров Западной области и ее военного губернатора до такой степени, что они присылали к нам эмиссаров с просьбой покинуть наши посты с оружием или без него и пробираться через буш и джунгли в Ибадан и на Запад. Тщательно обдумав сложившееся положение и тенденции развитие страны, какими они мне тогда представлялись, я выразил благодарность за это предложение от лица всех офицеров, служивших на Севере, и вежливо отклонил его. Мы твердо решили, что должны оставаться в наших частях. Несмотря на запугивание со стороны солдат и гражданских лиц и непосредственную опасность, угрожавшую нашей жизни, ни один из старших офицеров не покинул своего поста.
Войска восточного происхождения вернулись в Энугу, остальные части были выведены оттуда; нигерийцы невосточного происхождения покинули Восток в интересах собственной безопасности, а выходцы с Востока, узнавая о преследовании своих соплеменников в других районах страны, возвращались домой: ведь нефть текла в Восточной области. Итак, были устранены последние препятствия для проведения в жизнь сепаратистских планов, разработанных группой восточных интеллектуалов, регулярно встречавшихся в Ибаданском университете после майских беспорядков на Севере.
Однако здравомыслящие нигерийцы и друзья Нигерии не впали в отчаяние. Политические лидеры по всей стране встречались в своих региональных центрах, пытаясь найти пути решения проблем, вставших перед страной, и выход из тупика. Восток и Север вели активную словесную войну через свои радиостанции и газеты.
Страна встретила 1967г. с надеждой. Было объявлено, что в Абури (Гана) под эгидой главы правительства Ганы генерала Анкра состоится заседание Высшего военного совета. Это была первая встреча военных руководителей страны с июля 1966г. Как оказалось, все члены совета, за исключением Оджукву, были либо слишком доверчивы и наивны, либо недостаточно подготовлены к этой встрече. Некоторые общественные деятели, которым в последний момент было предложено войти в федеральную делегацию, вообще отказались ехать, сославшись на отсутствие времени для подготовки. Уолтер Шварц отмечал: "Оджукву, оказавшись самым дальновидным, добился своих целей без больших усилий. Он был единственным, кто четко представлял себе весь комплекс вопросов, стоящих на повестке дня. Шаг за шагом и другие начинали соглашаться с логикой исходного тезиса Оджукву - для того, чтобы создать прочный союз, области сначала должны разойтись. Только Оджукву понимал, что это означает, по сути дела, создание суверенной Биафры и конец Федерации".
Оджукву на Востоке и федеральным военным правительством в Лагосе были опубликованы различные версии происшедших в Абури событий. В результате Оджукву обвинил федеральное правительство в обмане и нарушении слова, а федеральное военное правительство обвинило Оджукву в искажении фактов.
После ряда совещаний между федеральными деятелями, а затем - между региональными и федеральными властями 17 марта 1967г. был опубликован декрет #8, означавший, по сути дела, конец федерации. Это была отчаянная попытка провести в жизнь решения, принятые в Абури, избежать тупика и, возможно, гражданской войны. Ко всеобщему удивлению, Оджукву полностью отклонил декрет #8 под предлогом того, что он лишь частично соответствует решениям абурийского совещания.
Выбор был сделан. Все посреднические усилия со стороны видных нигерийцев и таких доброжелателей, как генерал Анкра, император Эфиопии Хайле Селассие и Мартин Лютер Кинг, оказались безуспешными. Целый ряд примиренческих миссий также не дал никаких результатов. Оджукву был решителен, упрям и несговорчив. Он отказался присутствовать на заседании Высшего военного совета в марте в Научно-исследовательском институте масличной пальмы (Бенин), созванном для обсуждения текущих вопросов и бюджета на предстоящий финансовый год. Оджукву стремился если не осуществить свою давнюю мечту и стать правителем независимой Нигерии, то по крайней мере расколоть ее и править суверенной Биафрой. Его уже ничто не могло остановить. Еще 7 июня 1966г., после инцидента 29 мая на Севере, Оджукву, как утверждали, говорил: "С федерацией нам больше не по пути... это лишь вопрос времени".
Оджукву присвоил имущество и средства федерального правительства на Востоке, захватил пассажирский самолет "Фоккер-27" государственной авиакомпании во время рейса из Бенина в Лагос. Эти и другие факты убедили федеральное военное правительство в том, что Оджукву твердо стремится к отделению. Подполковник Говон установил морскую блокаду Востока. Но для того, чтобы остановить Оджукву, нужны были более строгие меры.
За исключением военной акции, единственным средством изменить ход событий оставалось создание новых штатов. Первоначально планировалось разделение на штаты лишь Восточной области. Но такой вариант был признан политически недальновидным и опасным. При доброжелательном нейтралитете Севера 27 мая 1967г. страна была поделена на 12 штатов. Этот акт сыграл важнейшую роль в политическом развитии Нигерии, последствия его ощущались и во время ведения военных действий федеральным военным правительством.
Реакция Энугу была быстрой и решительной: 30 мая 1967г. Восточный регион Нигерии был провозглашен "суверенной Республикой Биафра".
В своей книге "Размышления о Нигерийской гражданской войне" Ральф Увечуэ пишет: "Для федерального правительства Нигерии отделение Восточного региона - Биафры - было естественной и неизбежной кульминацией тщательно разработанного и тайно выношенного восточными лидерами плана. С точки зрения Биафры, она была отвергнута и изгнана из состава федеральной Нигерии. Истина лежит где-то между этими двумя противоречащими друг другу позициями... Несомненно, важное решение об отделении было принято не за 2 недели. Оно было подготовлено".
Бывший генеральный прокурор Востока Грэхам-Дуглас в своей брошюре "Восстание Оджукву и мировое общественное мнение" утверждал следующее:
"Еще в марте 1967г. у задержанного в лондонском аэропорту чиновника восточного регионального правительства были обнаружены чертежи и образцы банкнот и марок "Республики Биафра". Британские таможенные власти конфисковали документы на 5 часов для "обычной проверки", после чего возвратили их перепуганному пассажиру. Об этом случае было сообщено в Лагос.
"На Востоке прослеживались две четкие тенденции, каждая из которых имела своих сторонников и среди гражданских, и среди военных. В то время как население Востока в целом, как ибо, так и национальные меньшинства, было возмущено и пылало жаждой мести после убийств 1966г., специалисты и администрация занимались разработкой проблемы обеспечения безопасности региона на случай угрозы с Севера в будущем. Некоторые "несгибаемые", число которых было особенно велико среди высших чиновников, бежавших их Лагоса, настаивали на немедленном отделении от Нигерии. Многие представители деловых кругов Востока призывали к осторожности.
"Поскольку сторонники единства Нигерии не пользовались популярностью и не были допущены к участию в выработке решений, правительство региона лишилось самого важного, что только может быть у политика,- чувства реальности. Образовавшийся вакуум был заполнен "несгибаемыми", которые, несмотря на свои признанные заслуги в той или иной сфере государственной службы или в научном мире, были новичками в сложнейшем мире политики. Не было единства и в армии. Даже после Абури ряд высокопоставленных офицеров, несмотря на искреннее намерение обороняться и защитить свою честь, задетую их северными коллегами в июле 1966г., все же предупреждали о военных и политических опасностях, кроющихся в плохо подготовленном отделении. В эту группу входил самый старший по званию из оставшихся в живых офицеров-ибо - бригадный генерал Хилари Нджоку. По некоторым данным, мнение Нджоку разделял и майор Чуквума Нзеогву".
Июнь был использован обеими сторонами для подготовки к войне. И те и другие увеличили свой военный арсенал, придвинули войска вплотную к границе и находились в напряженном ожидании до первого выстрела, который раздался на рассвете 6 июня 1967г. Уважающий себя глава государства не мог стерпеть оскорбительного поведения Оджукву и предательского акта отделения. Первый выстрел был сделан федеральной стороной [По заявлению главы федерального военного правительства и главнокомандующего Я.Говона, он отдал приказ о наступлении в ответ на выстрел со стороны Биафры.- Прим, ред.]. Началась гражданская война.
До 1900г. на территории, именуемой ныне Нигерией, существовал ряд независимых и зачастую враждебных друг другу государств, отличных по языку и культуре. Губернатор Нигерии с 1920 по 1931г. Хью Клиффорд писал, что Нигерия - "конгломерат независимых туземных государств, разделяемых... значительными расстояниями, особенностями исторического развития и традиций, между которыми стоят этнические, расовые, племенные, политические, социальные и религиозные барьеры" [Nigeria, Legislative Council Debates, Lagos, 1920]. Создание Нигерии как многонационального государства началось с образования в 1900г. Протекторатов Северной и Южной Нигерии и колонии Лагос. Объединение страны было продолжено в 1906г., когда существовавшие до сих пор отдельно Протекторат Южная Нигерия и колония Лагос были преобразованы в Колонию и Протекторат Южной Нигерии. Администрации Северной и Южной Нигерии еще оставались обособленными, непосредственно подчиняясь министерству колоний Англии.
Важнейшим шагом в политическом развитиии Нигерии явилось объединение 1 января 1914г. лордом Лугардом администраций двух частей страны. В целях облегчения управления и в соответствии с экономическими интересами англичан в обеих частях Нигерии были сохранены системы косвенного управления и независимого развития, в то время как центральная администрация располагалась в Лагосе. Такая политика привела, по сути дела, к образованию двух Нигерий, каждая из которых имела свой путь развития, социальную, политическую, экономическую и культурную основу. Конституция 1922г., первая в истории страны, создала Нигерийский законодательный совет, членам которого, однако, не было дано право принимать законы, касающиеся Севера.
Во время второй мировой войны Нигерия была разделена на 4 административные единицы: колонию Лагос и Северный, Восточный и Западный регионы (области). Такое административное деление, предусматривающее усиление автономии Лагоса и трех регионов, было закреплено конституцией Артура Ричардса (1946г.), "основавшей" нигерийский регионализм. Этой акцией был достигнут определенный политический прогресс, выразившийся в интеграции впервые на законодательном уровне Севера и Юга, однако она носила половинчатый характер.
Пробуждение политического самосознания и подъем национализма, начавшиеся после второй мировой войны, привели к изменениям в конституции Ричардса всего через 4 года после ее введения в действие, в 1950г. Она не оправдала надежд и ее создателя. Учитывая то обстоятельство, что политические партии уже сформировались именно на региональной и этнической основе, дальнейший путь развития был очевиден: предстояла полная регионализация. Принятая в 1951г. конституция Макферсона повышала степень невмешательства во внутрирегиональные дела друг друга на базе усиления региональной автономии и законодательных органов регионов. В сложившейся ситуации, когда у центрального правительства остались лишь ограниченные права, внутриполитическое положение Нигерии ухудшилось, поскольку возникла опасность раскола страны на три части (при условии присоединения Лагоса к Западному региону). Обострившиеся в 1953г. противоречия в федеральном правительстве и кровавые столкновения в Кано, вызванные разногласиями о сроках перехода к самоуправлению, еще больше углубили пропасть между регионами, в особенности между Югом и Севером. Впервые на Севере стали открыто говорить о возможности отделения, обвинив центральные власти в оскорбительном отношении к региону. Запад также стал угрожать отделением под предлогом того, что Лагос не был включен в состав Западного региона в соответствии с конституцией 1951г. Конституция 1954г. подтвердила и формально закрепила стремление нигерийских лидеров идти каждому своей дорогой, не вмешиваясь в дела друг друга. Был сделан необратимый выбор между унитарной и федеральной формами правления в пользу федерализма.
После этого события на политической арене стали развиваться стремительно. В 1954, 1957, 1958, 1959 и 1960гг. состоялись конституционные конференции, которые привели к получению Нигерией политической независимости 1 октября 1960г. Начиная с 1954г. основной тенденцией политического развития страны являлось максимальное, вплоть до самоизоляции, укрепление региональной базы каждой крупной партии за счет центральной власти.
То обстоятельство, что комиссия Уиллинка в 1958г. не рекомендовала переходить к дроблению регионов, что соответствовало бы нигерийскому образцу федерализма, создало дополнительные препятствия развитию Нигерии в 50-х гг. Федеральное военное правительство заявило об этом в 1967г.: "При завоевании независимости нашей страной не были решены многие жизненно важные проблемы. Одной их таких кардинальных проблем был вопрос о создании новых штатов, что заложило бы более прочную основу стабильности Федерации Нигерии. Английское правительство указывало тогда, что в случае создания новых штатов потребуется не менее двух лет для их внутреннего укрепления и, таким образом, до предоставления стране независимости".
Все политические лидеры, опирающиеся на сильные региональные базы, ожесточенно сражались за предоставление максимальной власти регионам за счет ослабления центра. Они приходили к власти на гребне трайбализма и невежества людей, жертвуя при этом национальным единством и интересами самого государства. Регионализм, который должен был гарантировать и сохранить национальную целостность, превратился в угрозу для нее. Во всех трех регионах вместо стремления к единству господствовали прямо противоположные настроения. Общим было только обращенное к Великобритании требование о предоставлении стране политической независимости, о чем все нигерийские политические лидеры говорили в один голос, но даже здесь их мнения расходились в вопросе о сроках.
С предоставлением независимости в 1960г. все сложности, которые раньше пытались не замечать, встали на повестку дня. Нигерия столкнулась с целым комплексом острых проблем, порожденных большей частью характером политического деления страны, недостатками действующей федеральной конституции и ошибками в ее применении.
Первые разногласия после достижения независимости возникли из-за оборонительного соглашения между Великобританией и Нигерией, являвшегося "попыткой [со стороны англичан.- Прим. авт.] обманом лишить Нигерию ее суверенитета" [A Reprint of the debate in the Federal House of Representatives on november. Lagos, 1960]. В соответствии с этим соглашением Великобритания и Нигерия договорились "оказывать друг другу такое содействие, какое окажется необходимым в целях взаимной обороны, а также проводить совместные консультации по поводу мер, которые должны быть приняты совместно или порознь, с тем чтобы обеспечить самое тесное сотрудничество между ними" [Ibid]. Это было неравноправное соглашение. Студенческие демонстрации и резкий протест со стороны общественного мнения и оппозиционных членов федерального парламента привели к аннулированию этого пакта в 1962г. Весь эпизод был незначителен по сравнению с последующими бурными политическими событиями, происшедшими в стране, но он достоин упоминания.
В 1962г. кризис в правящей в Западном регионе Группе действия привел к аресту ряда ее лидеров, в том числе лидера оппозиции в федеральном парламенте вождя Обафеми Аволово [Аволово, Обафеми - один из крупнейших политических деятелей Нигерии. По этнической принадлежности - йоруба. В 1950г. создал и возглавил партию Группа действия.- Прим. перев.]. После введения федеральным правительством на Западе непосредственного правления последовало выделение из состава Западного региона Среднезападного региона. К тяжелым последствиям привело объявление о том, что в стране не будет больше создано новых штатов. С 20 мая 1962г. по 15 января 1966г., когда произошел первый военный переворот, Западный регион не знал спокойствия. Арестованным руководителям Группы действия были предъявлены обвинения в государственной измене, подготовке заговора и незаконном ввозе оружия. Они были признаны виновными в сентябре 1963г. и приговорены к срокам заключения от 5 до 15 лет.
Параллельно разразился скандал, вызванный тем, что перепись населения, состоявшаяся в 1962г., была проведена с нарушением норм законности, а ее результатом были такие раздутые цифры, что Восточный регион отказался их признать. В 1963г. была проведена еще одна перепись, но и ее окончательные результаты были приняты с долей сомнения.
Население среднего пояса Севера все более тяготилось властью Северного народного конгресса (СНК). Народ тив открыто бунтовал почти три года (1962-1965гг.).
Самый крупный кризис того периода разразился в связи с федеральными выборами 1964г. Они не были ни свободными, ни честными: правящие партии использовали все мыслимые средства для устранения своих противников. Объединенный великий прогрессивный союз (ОВПС) (альянс партий Национального совета нигерийских граждан и Группы действия) принял решение бойкотировать выборы. Сам председатель избирательной комиссии признал, что были допущены очевидные нарушения.
По результатам выборов, Нигерийский национальный союз (ННС) получил 190 мест, а ОВПС - 40 мест в федеральном парламенте. Однако президент Ннамди Азикиве [Азикиве, Ннамди - первый президент независимой Нигерии (1963-1966гг.), крупный политический деятель страны.- Прим. перев.] отказался предоставить ННС право сформировать правительство. Как президент, так и премьер-министр Абубакар Тафава Балева [Балева, Абубакар Тафава - видный государственный и политический деятель Нигерии, премьер-министр первого суверенного правительства страны (1960-1966гг.). Был убит 15 января 1966г. во время первого военного переворота.- Прим. перев.] искали поддержки у вооруженных сил. В течение 4 дней страна находилась в напряженном ожидании, пока 4 января 1965г. президент не объявил, что он вновь назначил премьер-министром А.Т.Балеву, который сформирует правительство на "широкой национальной основе". Таким образом, это компромиссное решение предотвратило раскол страны, казавшийся неминуемым после всеобщих выборов 1964г.
На региональных выборах в Западной области в 1965г. здравый смысл также не победил. Подтасовки и обман во время этих выборов были еще более бесстыдными. Закон и порядок полностью вытеснила анархия. Отряды наемных бандитов совершали многочисленные поджоги и убийства. Население находилось в постоянном страхе за свою жизнь и имущество. Так обстояли дела, когда произошел переворот 15 января 1966г. Можно смело утверждать, что бикфордов шнур непосредственных причин, породивших этот взрыв, был подожжен на региональных выборах в Западной области в 1965г. Целью переворота, по заявлению его руководителей, являлось "установление сильного, единого и благоденствующего государства, свободного от коррупции и внутренних раздоров".
Результатом этого неудачного переворота явилось нарушение баланса политических сил в стране. Методы проведения переворота и его результаты не соответствовали тем целям, которые провозгласил глава группы заговорщиков майор Нзеогву. Все уничтоженные политические деятели и старшие армейские офицеры были с Севера и Запада, за исключением одного политика со Среднего Запада и офицера восточного происхождения. Переворот ускорил раскол Нигерии. "Федерация была больна с рождения, и к январю 1966г. больной, измученный ребенок свалился" [Kirk-Greene А.Н.Т. Crisis and Conflikts in Nigeria 1967-1970. London, 1971, Vol.I, p.210]. Со дня достижения независимости и по январь 1966г. страна переживала постоянные внутренние потрясения, но после переворота она оказалась на грани катастрофы.
Неумеренные восторги по поводу переворота, которыми он был первоначально встречен, резко прекратились, когда пришедшее к власти правительство генерал-майора А.Дж.Агийи-Иронси обнародовало свою программу. Если бы Иронси проявил больше понимания образа мышления северян, он смог бы составить себе политический капитал на надеждах, рожденных переворотом. Но помимо того, что он не сумел извлечь выгоду из первоначальной благожелательной реакции на события, он не знал, как поступить с арестованными руководителями переворота: обращаться ли с ними, как с героями революции или отправить под военный трибунал как мятежников и убийц. Ограниченность мышления Иронси сковывала его действия, а его советники, занятые собственными проблемами, не оказали ему достаточной помощи.
Благожелательная реакция среди некоторых кругов на Севере сменилась многозначительным молчанием. Недовольство накапливалось постепенно и в мае 1966г. вылилось в беспорядки, начавшиеся после обнародования декрета #34 правительства Иронси - декрета об унификации страны. Этот декрет предусматривал слияние федеральных и региональных гражданских служб, упразднение деления страны на регионы и создание вместо них провинций. Последовавший за беспорядками контрпереворот 29 июля 1966г. имел две цели: месть Востоку со стороны Севера и раздел страны. Однако мудрые советы преданных родине нигерийцев и дружественно настроенных иностранцев предотвратили раскол. После трех напряженных дней, в течение которых в стране господствовало смятение и ею фактически никто не управлял, новым политическим лидером Нигерии с 1 августа 1966г. стал подполковник Якубу Говон. Руководители переворота не пожелали передавать власть бригадному генералу Огундипе, который являлся в то время начальником генерального штаба и, таким образом, самым старшим офицером в отсутствие верховного главнокомандующего. Огундипе, которого заговорщики не признавали, поскольку он был "не из их круга", быстро понял, что он не сможет осуществлять эффективный контроль над армией в ситуации, когда даже какой-то сержант (очевидно, северного происхождения) отказался выполнить его распоряжения и заявил Огундипе, что вообще не намерен получать от него приказы. В царившей тогда неразберихе никто не наказал сержанта за такой серьезный проступок, и это лишний раз заставило Огундипе понять всю бесполезность любой попытки с его стороны взять в свои руки бразды правления государством. Он осознал, что не сможет контролировать крайне осложнившееся и запутанное положение и предотвратить возможное отделение Севера. Огундипе был вынужден добровольно и с явным чувством облегчения поменять пост, который должен был занять, на место посла Нигерии в Великобритании. В то время подполковник Якубу Говон [Говон, Якубу - видный военный и политический деятель Нигерии. По этнической принадлежности - ангас (небольшое племя на севере страны). Кадровый военный, окончил английское военное училище в Сандхорсте. После январского переворота 1966г. был назначен начальником штаба армии в чине подполковника. В августе 1966г. возглавил второе военное правительство. Во время междоусобной войны (1967-1970гг.) стал генералом, председателем Высшего военного совета и главнокомандующим вооруженными силами Нигерии. В 1974г. посетил СССР с официальным визитом.- Прим. перев.] был самым старшим армейским офицером-северянином.
Отсутствие у заговорщиков твердой программы действия в сочетании со стремлением к мщению вылились в хаос, замешательство и волну бессмысленных убийств, прокатившуюся по стране. Даже руководители переворота на смогли остановить беззакония, грабежи и убийства, охватившие Север в сентябре 1966г. В стране воцарилась полнейшая анархия. В обращении по радио к народу Севера в сентябре подполковник Якубу Говон сказал:
"Я ежедневно получаю жалобы, что до сих пор граждане восточного происхождения, живущие на Севере, подвергаются преследованиям, их убивают, а имущество грабят. Творимые беззакония представляются бессмысленными, события начинают носить безумный и безответственный характер" ["NewNigerian", 30 September 1966]. "Дейли таймс" от 28 сентября 1966г. писала: "Сегодня по стране бродит много сумасшедших и находящихся на грани помешательства людей, которые делают, что хотят, не подчиняясь никаким приказам или распоряжениям военных или гражданских властей".
Еще до описываемых событий, 9 августа 1966г., в целях прекращения убийств и сохранения единства страны в какой- либо форме в Лагосе была созвана специальная конференция всех регионов, которая сформулировала следующие рекомендации:
1. Главнокомандующим должны быть предприняты немедленные шаги для перевода личного состава вооруженных сил в казармы, расположенные в регионах, соответствующих этническому происхождению частей.
2. Учитывая особое положение Лагоса, поддержание в нем спокойствия и безопасности должно остаться в ведении главнокомандующего при условии консультаций с военными губернаторами регионов.
3. В течение недели должна быть организована повторная встреча представителей всех областей, в данном или расширенном составе, в целях выработки общих рекомендаций касательно характера будущего политического союза составляющих Нигерию регионов.
4. Должны быть предприняты немедленные шаги для аннулирования или изменения соответствующих положений любого декрета, если он предусматривает излишнюю централизацию.
5. Главнокомандующий должен обеспечить необходимые условия для срочного проведения заседания Высшего военного совета в целях выработки дальнейших мер по ослаблению напряженности в стране.
Первая рекомендация была проведена в жизнь 13 августа 1966г. Солдаты и офицеры восточного происхождения, служившие в разных областях страны, были официально переведены в Энугу, а выходцы из других этнических групп - из Энугу в Кадуну и затем в Лагос, где они составили 6-й батальон нигерийской армии. Эти невинные с виду действия уничтожили последний национальный институт, воплощавший нигерийскую государственность, и окончательно разрушили ту национальную сплоченность, которую политики постоянно испытывали на прочность начиная с 1962г. Разрыв между Восточной областью и остальной частью страны был полным. Большинство граждан восточного происхождения, никогда не живших на Востоке и прочно обосновавшихся в других частях страны, желая обеспечить свою безопасность, переселились на Восток. Многие их них, прибыв на новое место, оказались в собственной стране на положении беженцев.
Больше ни одна из вышеперечисленных рекомендаций не была выполнена полностью, за исключением аннулирования декрета об унификации. Расширенная специальная конституционная конференция начала работу в Лагосе 12 сентября 1966г., (спустя месяц, а не неделю после первой) и прекратила работу в ноябре, не предложив дельного решения назревших проблем.
Выполнение рекомендаций специальной конференции относительно формирования армейских подразделений на региональной основе продолжало осуществляться политическими лидерами Западной области и после того, как оттуда закончился вывод восточных частей. Они боялись доминирования войск Севера на своей территории, очевидно беспокоясь за безопасность частей из Западной области.
Я был самым старшим офицером с Запада, служившим на Севере. Другие офицеры делились со мной своим беспокойством по поводу происходящих событий. Эти настроения особенно усилились после двух трагических случаев. В августе 1966г. солдаты 4-го батальона, дислоцированного в Ибадане, вышли из повиновения и были в полном составе переведены в Кадуну. Чтобы показать свою "храбрость", они начали искать по госпиталям Кадуны офицеров-ибо, чтобы их убить, и одного действительно убили. Они также хотели убить майора Алаби, служившего в батальоне в Ибадане и переведенного в Нигерийский военный колледж в Кадуне после январского переворота 1966г. Военный губернатор и местные офицеры показали себя с самой лучшей стороны и спасли жизнь Алаби, тайно отправив его из Кадуны. Вторым инцидентом были мятежные действия частей под командованием подполковника Адекунле, которые переправляли по железной дороге из Энугу в Лагос через Кадуну. Несколько офицеров-ибо сели на поезд в Кадуне, чтобы через Лагос попасть в Восточную область. Солдатам это не понравилось. Бунт, поднятый группой недисциплинированных солдат, привел к тому, что их командир получил штыковую рану. В дополнение к этому в Лугард-холле регулярно проводились встречи офицеров и гражданских лиц северного происхождения, на которые приглашались даже младшие офицеры, в то время как старшие офицеры из других областей страны приглашений туда не получали.
Соообщения и слухи о таких фактах беспокоили политических лидеров Западной области и ее военного губернатора до такой степени, что они присылали к нам эмиссаров с просьбой покинуть наши посты с оружием или без него и пробираться через буш и джунгли в Ибадан и на Запад. Тщательно обдумав сложившееся положение и тенденции развитие страны, какими они мне тогда представлялись, я выразил благодарность за это предложение от лица всех офицеров, служивших на Севере, и вежливо отклонил его. Мы твердо решили, что должны оставаться в наших частях. Несмотря на запугивание со стороны солдат и гражданских лиц и непосредственную опасность, угрожавшую нашей жизни, ни один из старших офицеров не покинул своего поста.
Войска восточного происхождения вернулись в Энугу, остальные части были выведены оттуда; нигерийцы невосточного происхождения покинули Восток в интересах собственной безопасности, а выходцы с Востока, узнавая о преследовании своих соплеменников в других районах страны, возвращались домой: ведь нефть текла в Восточной области. Итак, были устранены последние препятствия для проведения в жизнь сепаратистских планов, разработанных группой восточных интеллектуалов, регулярно встречавшихся в Ибаданском университете после майских беспорядков на Севере.
Однако здравомыслящие нигерийцы и друзья Нигерии не впали в отчаяние. Политические лидеры по всей стране встречались в своих региональных центрах, пытаясь найти пути решения проблем, вставших перед страной, и выход из тупика. Восток и Север вели активную словесную войну через свои радиостанции и газеты.
Страна встретила 1967г. с надеждой. Было объявлено, что в Абури (Гана) под эгидой главы правительства Ганы генерала Анкра состоится заседание Высшего военного совета. Это была первая встреча военных руководителей страны с июля 1966г. Как оказалось, все члены совета, за исключением Оджукву, были либо слишком доверчивы и наивны, либо недостаточно подготовлены к этой встрече. Некоторые общественные деятели, которым в последний момент было предложено войти в федеральную делегацию, вообще отказались ехать, сославшись на отсутствие времени для подготовки. Уолтер Шварц отмечал: "Оджукву, оказавшись самым дальновидным, добился своих целей без больших усилий. Он был единственным, кто четко представлял себе весь комплекс вопросов, стоящих на повестке дня. Шаг за шагом и другие начинали соглашаться с логикой исходного тезиса Оджукву - для того, чтобы создать прочный союз, области сначала должны разойтись. Только Оджукву понимал, что это означает, по сути дела, создание суверенной Биафры и конец Федерации".
Оджукву на Востоке и федеральным военным правительством в Лагосе были опубликованы различные версии происшедших в Абури событий. В результате Оджукву обвинил федеральное правительство в обмане и нарушении слова, а федеральное военное правительство обвинило Оджукву в искажении фактов.
После ряда совещаний между федеральными деятелями, а затем - между региональными и федеральными властями 17 марта 1967г. был опубликован декрет #8, означавший, по сути дела, конец федерации. Это была отчаянная попытка провести в жизнь решения, принятые в Абури, избежать тупика и, возможно, гражданской войны. Ко всеобщему удивлению, Оджукву полностью отклонил декрет #8 под предлогом того, что он лишь частично соответствует решениям абурийского совещания.
Выбор был сделан. Все посреднические усилия со стороны видных нигерийцев и таких доброжелателей, как генерал Анкра, император Эфиопии Хайле Селассие и Мартин Лютер Кинг, оказались безуспешными. Целый ряд примиренческих миссий также не дал никаких результатов. Оджукву был решителен, упрям и несговорчив. Он отказался присутствовать на заседании Высшего военного совета в марте в Научно-исследовательском институте масличной пальмы (Бенин), созванном для обсуждения текущих вопросов и бюджета на предстоящий финансовый год. Оджукву стремился если не осуществить свою давнюю мечту и стать правителем независимой Нигерии, то по крайней мере расколоть ее и править суверенной Биафрой. Его уже ничто не могло остановить. Еще 7 июня 1966г., после инцидента 29 мая на Севере, Оджукву, как утверждали, говорил: "С федерацией нам больше не по пути... это лишь вопрос времени".
Оджукву присвоил имущество и средства федерального правительства на Востоке, захватил пассажирский самолет "Фоккер-27" государственной авиакомпании во время рейса из Бенина в Лагос. Эти и другие факты убедили федеральное военное правительство в том, что Оджукву твердо стремится к отделению. Подполковник Говон установил морскую блокаду Востока. Но для того, чтобы остановить Оджукву, нужны были более строгие меры.
За исключением военной акции, единственным средством изменить ход событий оставалось создание новых штатов. Первоначально планировалось разделение на штаты лишь Восточной области. Но такой вариант был признан политически недальновидным и опасным. При доброжелательном нейтралитете Севера 27 мая 1967г. страна была поделена на 12 штатов. Этот акт сыграл важнейшую роль в политическом развитии Нигерии, последствия его ощущались и во время ведения военных действий федеральным военным правительством.
Реакция Энугу была быстрой и решительной: 30 мая 1967г. Восточный регион Нигерии был провозглашен "суверенной Республикой Биафра".
В своей книге "Размышления о Нигерийской гражданской войне" Ральф Увечуэ пишет: "Для федерального правительства Нигерии отделение Восточного региона - Биафры - было естественной и неизбежной кульминацией тщательно разработанного и тайно выношенного восточными лидерами плана. С точки зрения Биафры, она была отвергнута и изгнана из состава федеральной Нигерии. Истина лежит где-то между этими двумя противоречащими друг другу позициями... Несомненно, важное решение об отделении было принято не за 2 недели. Оно было подготовлено".
Бывший генеральный прокурор Востока Грэхам-Дуглас в своей брошюре "Восстание Оджукву и мировое общественное мнение" утверждал следующее:
"Еще в марте 1967г. у задержанного в лондонском аэропорту чиновника восточного регионального правительства были обнаружены чертежи и образцы банкнот и марок "Республики Биафра". Британские таможенные власти конфисковали документы на 5 часов для "обычной проверки", после чего возвратили их перепуганному пассажиру. Об этом случае было сообщено в Лагос.
"На Востоке прослеживались две четкие тенденции, каждая из которых имела своих сторонников и среди гражданских, и среди военных. В то время как население Востока в целом, как ибо, так и национальные меньшинства, было возмущено и пылало жаждой мести после убийств 1966г., специалисты и администрация занимались разработкой проблемы обеспечения безопасности региона на случай угрозы с Севера в будущем. Некоторые "несгибаемые", число которых было особенно велико среди высших чиновников, бежавших их Лагоса, настаивали на немедленном отделении от Нигерии. Многие представители деловых кругов Востока призывали к осторожности.
"Поскольку сторонники единства Нигерии не пользовались популярностью и не были допущены к участию в выработке решений, правительство региона лишилось самого важного, что только может быть у политика,- чувства реальности. Образовавшийся вакуум был заполнен "несгибаемыми", которые, несмотря на свои признанные заслуги в той или иной сфере государственной службы или в научном мире, были новичками в сложнейшем мире политики. Не было единства и в армии. Даже после Абури ряд высокопоставленных офицеров, несмотря на искреннее намерение обороняться и защитить свою честь, задетую их северными коллегами в июле 1966г., все же предупреждали о военных и политических опасностях, кроющихся в плохо подготовленном отделении. В эту группу входил самый старший по званию из оставшихся в живых офицеров-ибо - бригадный генерал Хилари Нджоку. По некоторым данным, мнение Нджоку разделял и майор Чуквума Нзеогву".
Июнь был использован обеими сторонами для подготовки к войне. И те и другие увеличили свой военный арсенал, придвинули войска вплотную к границе и находились в напряженном ожидании до первого выстрела, который раздался на рассвете 6 июня 1967г. Уважающий себя глава государства не мог стерпеть оскорбительного поведения Оджукву и предательского акта отделения. Первый выстрел был сделан федеральной стороной [По заявлению главы федерального военного правительства и главнокомандующего Я.Говона, он отдал приказ о наступлении в ответ на выстрел со стороны Биафры.- Прим, ред.]. Началась гражданская война.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА II. НАЧАЛО ВОЙНЫ И ОПЕРАЦИИ НА СЕВЕРЕ
Многие деятели федеральной стороны, разумно оценивающие общую ситуацию, уже начиная с апреля 1967г. все больше убеждались, что с разрывом абурийского соглашения и учитывая непреклонную позицию Оджукву гражданская война становится неизбежной. Следует отметить, что такие сторонники жесткого курса, как полковник Муртала Мохаммед, утверждали, что промедление с началом наступления на Восток приведет к еще более кровавым и тяжелым последствиям.
Именно это твердое убеждение полковника Мурталы Мохаммеда и тайные шаги к осуществлению жесткого курса на практике вызвали второе открытое столкновение и разрыв между ним и главой государства генерал-майором Якубу Говоном.
Биафрская "декларация об отделении" только усугубила опасность возникновения войны. К маю 1967г. подготовка к боевым действиям шла полным ходом. Уже к этому времени четыре из шести пехотных батальонов входили в состав 1-й бригады, реорганизованной после Абури в 1-е оперативное соединение. Главнокомандующий объявил мобилизацию бывших военнослужащих. Из 7тыс. призывников были сформированы 20-й, 21-й, 22-й и 23-й батальоны. Начался призыв в армию личного состава федеральной и местной полиции. Власти на Севере получили задание от председателя временных административных служб Севера проводить с населением занятие по гражданской обороне и разработать планы эвакуации из больших городов на случай массированных воздушных налетов.
Была ускорена закупка заказанного армией в 1966г. оружия и снаряжения. Поскольку существующих запасов для обеспечения мобилизации явно не хватало, на ряд доверенных чиновников в Лагосе и Кадуне, помимо их обычных дел, были возложены обязанности по приобретению оружия, боеприпасов и снаряжения, необходимого для ведения войны. Для местных и международных торговцев оружием и посредников наступили счастливые дни. Хаотичная и ненадежная система снабжения армии была характерна для всего периода войны. Ситуация еще более ухудшилась, когда некоторые западные страны приняли решение наложить эмбарго на поставки оружия и боеприпасов федеральному правительству.
По первоначальным планам боевые действия должны были вестись войсками, расположенными на Севере, а снабжаться они должны были в основном из Кадуны. Таким образом, на первой стадии войны Кадуна в определенной степени разделяла с Лагосом функции политического и оперативного штаба.
Планом штаба армии предусматривалось, что война будет вестись в четыре этапа: будут взяты Нсукка, Огоджа, Абакалики, и все закончится через месяц взятием Энугу. Это дало основание полковнику Хассану Кацине сделать свое знаменитое предсказание, которое гласило, что война будет закончена в течение 48 часов. В наступательных операциях основной боевой силой должно было стать 1-е оперативное соединение, 2-му оперативному соединению в Ибадане было поручено обеспечение порядка в штате, 4-му в Бенине - оборона Среднего Запада и границ. Гарнизон Лагоса, из которого впоследствии была выделена 3-я дивизия, должен был оборонять столицу. Предварительная оценка федералистами боеспособности армии мятежников, ее личного состава, вооружения и снаряжения не давала штабу нигерийцев особых оснований для беспокойства. По всей вероятности, была недооценена способность мятежников немедленно осуществить полную мобилизацию для отпора превосходящим силам противника.
Мятежники начали форсированную подготовку к войне, как только войска невосточного происхождения покинули Энугу в августе 1966г. Приток добровольцев был так велик, что Фредерик Форсит в своей книге "История Биафры" утверждает, будто бы только 10% из их числа могли быть приняты на военную службу. Началась подготовка рядовых и офицеров на специальных курсах, слушателями которых были в основном студенты и преподаватели университета в Нсукке. Планы этой подготовки уже тогда предусматривали ведение тотальной войны. Выступая в мае 1967г. перед национальным комитетом примирения в Энугу, подполковник Оджукву сказал: "Я начал борьбу в июле 1966г., когда у меня было всего 120 винтовок для обороны Востока. Я возглавил движение, полностью сознавая, что, хотя мое имя и войдет в историю, я одновременно подписываю себе смертный приговор. Но я верю, что это было жизненно необходимо для всего Юга. Я не стал тратить силы на бессмысленные призывы к миру, потому что понимал, что идет откровенная борьба за власть и мы сможем вести переговоры о будущем Нигерии на равных только тогда, когда ликвидируем отставание в области вооружения. И я начал над этим работать. Должен сообщить, если вы этого не знаете, что сейчас на Востоке мы имеем самую большую армию в Африке, и я и мои офицеры гордимся этим. Я говорю уже не как слабейшая сторона, я выступаю с позиции силы. Я не собираюсь обрушивать на противника всю разрушительную мощь моей армии. В мои намерения не входит воевать, пока на меня не нападут. Но если это случится, я разгромлю агрессора" [The Collapse of a Rebellion and Prospect for Lasting Pease. Lagos. 1968, p.97].
Хотя Оджукву была свойственна любовь к преувеличениям и гиперболам, не было сомнений в том, что к тому времени он уже получил оружие и боеприпасы из французских, испанских и португальских источников, а также гарантировал себе поддержку наемников из Франции и ЮАР, в то время как федералисты получили лишь стрелковое оружие из Великобритании, Италии и Западной Германии.
2 июля 1967г. 1-е оперативное соединение получило приказ о начале операции "Юникорд" - короткой "полицейской операции" против мятежников. Соединение было разделено на две бригады, по три батальона в каждой. В 5 часов утра 6 июля 1967г. войска соединения перешли в наступление, и к восходу солнца бои завязались по всему фронту. 21-й батальон, наступавший на Нсукку, без труда преодолевал сопротивление мятежников вплоть до Обукпы. Здесь мятежники успешно атаковали батальон с воздуха, используя старый американский Б-26. Его пилотировал тихий поляк по фамилии Браун, прозванный Камикадзе за отчаянную храбрость. Моральный эффект, произведенный на солдат воздушным нападением, был огромен. Угроза налета Б-26 была постоянной до тех пор, пока в сентябре он не был выведен из строя на земле, в аэропорту Энугу.
Чтобы опровергнуть обвинения в оказании поддержки мятежникам, американцы сделали следующее заявление по поводу Б-26: "Самолет, участвующий, как сообщается, в операциях в бывшем Восточном регионе Нигерии, ранее принадлежал ВВС Франции, продавшим его за ненадобностью. Хотя самолет имеет американский регистрационный номер, ни одно ведомство в США не выдавало на него сертификата о годности к полетам, откуда следует, что данная регистрация фальшивая. Имеющаяся о самолете информация свидетельствует о том, что в июне бельгийский пилот перелетел на нем из Остенде в Лиссабон, где самолет был, как утверждается, продан французскому гражданину. С незаконным регистрационным номером и без сертификата о годности к полетам самолет был пилотирован французским экипажем из Лиссабона в Дакар и Абиджан, а затем в Энугу".
21-й и 22-й батальоны продолжали наступление и к 13 июля находились в 3км от Нсукки. Значение университетского города для мятежников как духовного и интеллектуального центра нельзя было недооценивать. Ожидалось, что они будут защищать его с особым упорством. Тем не менее капитан Вушуши во главе 21-го батальона вошел в Нсукку 14 июля. Мятежники предприняли ряд контратак, но безуспешно. При наступлении федералистов погиб сводный брат Оджукву, Том Биггер. На нем был найден пропуск, подписанный майором Нзеогву. Сам же Чуквума Нзеогву погиб около Нсукки 26 июля 1967г., производя ночью разведку позиций федералистов.
Этот блестящий молодой офицер разработал план январского переворота 1966г. и непосредственно руководил им. Он попал в засаду, пытаясь вернуть Нсукку мятежникам. Как получилось, что Нзеогву оказался на стороне сепаратистов, тогда не было ясно; ранее в письме ко мне он говорил о желании сражаться за единство Нигерии, а не за ее раскол. Я близко знал его и уважал за здоровый национализм и пан-африканские взгляды. Слова одного близко знавшего Чуквуму Нзеогву офицера выражают и мое мнение о нем: "В 29 лет этот загадочный майор Нзеогву является одним из самых способных офицеров в истории Нигерии. Он известен как националист, не имеющий каких-либо трайбалистских наклонностей. В войсках его любят за храбрость и простоту в обращении, а коллеги-офицеры уважают за высокий профессионализм и даже побаиваются за непобедимую логику в спорах. Это солдат, чье имя вызывает в Нигерии чувства любви и восхищения. Он честен и надежен". Тело Нзеогву доставили в Кадуну, где он из уважения к его подлинному патриотизму был похоронен со всеми воинскими почестями.
Во время наступления на Энугу из-за ненужного риска и отчаянной смелости погиб один из наиболее многообещающих африканских поэтов, Крис Окигбо.
9 августа 1967г. мятежники вступили на территорию Среднего Запада и полностью подчинили себе штат. Это приостановило продвижение 1-го оперативного соединения, но не деморализовало войска. 3-й батальон был отправлен из Ибадана в Окене с целью предотвратить проникновение мятежников со Среднего Запада на Север. До этого батальон сражался в районе Нсукки.
Мятежники продвинулись на Запад до Оре. К этому времени федералисты сформировали 2-ю пехотную дивизию под командованием полковника Мурталы Мохаммеда, а части на Севере, именуемые ранее 1-м оперативным соединением, стали называться 1-й пехотной дивизией; командовать ею был назначен полковник Мохаммед Шува. Части лагосского гарнизона, действующие на Юге под командованием полковника Бенджамина Адекунле, стали называться 3-й пехотной дивизией. Итак, "полицейская акция" обернулась затяжной военной компанией.
Наступление 1-й пехотной дивизии на юг было медленным, так как она действовала в районах, населенных преимущественно ибо, и за каждый сантиметр территории приходилось сражаться. Наступление, однако, проходило без значительных задержек и было достаточно хорошо скоординированно, так как войска дивизии уже имели необходимый опыт и подготовку. Осторожное, медленное продвижение 1-й дивизии, не ставящее своей целью быстрый и решительный разгром противника за счет рискованных операций, все же продолжало оказывать давление на мятежников.
Являясь столицей Восточного региона, а впоследствии Восточно-Центрального штата, Энугу стал бастионом сепаратизма. Федеральная сторона предполагала, что его захват будет означать окончание войны. Штурм Энугу был поручен 1-й бригаде под командованием подполковника Т.Я.Данджумы, который разрабатывал план этой операции в течение 6 недель.
10 сентября 1967г. мятежники в трех местах атаковали оборонительные позиции 1-й бригады; либо они надеялись нанести упреждающий удар, либо их воодушевили успехи на Среднем Западе, как бы то ни было, выиграли от этого федералисты. Впервые в этой зоне боевых действий мятежники использовали в бою своих "красных дьяволов" - модифицированные французские бронетранспортеры довоенного производства. Хотя эти машины и представляли некоторую опасность, они были медлительны, неуклюжи, с плохим обзором и маневренностью, легко становились жертвой противотанковых ружей и смелых пехотных атак. Наступление дорого стоило мятежникам: они потеряли много людей и снаряжения, в том числе 3 "красных дьявола" с экипажами и их командира майора Мегву.
Мятежники еще не успели оправиться от этой неудачи, когда 12 сентября 1967г. федералисты выступили из Нсукки на Энугу. Наступление развивалось медленно и трудно, так как отступающие мятежники создавали весьма эффективные препятствия продвижению федеральных войск: они рыли на дорогах глубокие ямы, валили большие деревья, создавая возможность для ведения прицельного огня. И наконец 4 октября, за 3 часа с трудом преодолев не сопротивление отступающих мятежников, а два вырытых ими огромных рва, федеральные войска вступили в Энугу.
Собранные во время войны разведывательные данные, подтвержденные впоследствии почти всеми сражавшимися на стороне Биафры, свидетельствовали, что, если бы 1-я дивизия была менее осторожной, действовала оперативнее и не боялась риска, захват Энугу и немедленное преследование мятежников могли бы привести к концу гражданской войны. Однако дивизия сначала затеяла довооружение, реорганизацию, перенесла штаб из Макурди в Энугу и только после этого начала преследование. Мне кажется, что в дивизии разделяли широко распространенное ошибочное мнение, что падение Энугу будет автоматически означать крах мятежа. 1-я дивизия решила дать сепаратистам время прекратить борьбу, не предполагая, что огонь мятежа по-прежнему ярко горит в сердцах большинства жителей Востока. Маскируя свои непомерные амбиции, Оджукву раздувал это пламя, он спекулировал на эмоциях своих весьма чувствительных соплеменников, считавших себя оскорбленными и мечтавших отомстить за трагические события 1966г. Подготовка 1-й дивизии длилась почти полгода, что дало мятежникам необходимую передышку для устройства взлетно-посадочных полос в Обилагу и Ули-Ихиала, а пока они использовали аэродром в Порт-Харкорте для получения необходимого военного снаряжения, превратив Умуахию во временный штаб.
Примерно через неделю после освобождения Энугу я прибыл в Лагос для консультаций с генерал-майором Говоном по поводу общего хода военных действий, в частности, в северном районе. Я выступил с предложением, чтобы сразу же после освобождения Энугу туда был назначен гражданский администратор, говорящий на ибо. Это было необходимо по следующим соображениям. Надо было освободить военное руководство от проблем, связанных с беженцами, и от управления всем комплексом гражданских административных дел: вопросов транспорта, связи, образования, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, заботы о благосостоянии гражданского населения и т.д. Надо было также продемонстрировать добрые намерения правительства по отношению к ибо и его подлинную заботу о них. Надо было опровергнуть распространяемые как дома, так и за границей обвинения в проведении геноцида, назначив представителя национальности ибо управлять центром их территории - столицей раскола Энугу. В результате разговора мне было поручено отыскать в Ибадане или другом месте подходящего человека.
Я вернулся на место службы и связался с властями Ибаданского университета. В отличие от многих ибо, покидавших страну, из проведенного за границей отпуска вернулся Тони Асика. Он отказался от сделанных ему там предложений перейти на место, более выгодное, чем занимаемое им в Ибаданском университете. Это доказывало его веру в будущее Нигерии и преданность родине. После короткого разговора с ним я убедился, что он именно тот человек, которого я искал. На следующий день я повез его в Лагос, чтобы представить главнокомандующему. Учитывая крайнюю важность и деликатность задачи, возлагаемой на Тони Асику, генерал-майор Говон решил навести о нем дополнительные справки до того, как принять окончательное решение. Рассматривались и другие кандидатуры. Через день или два Якубу Говон сделал свой выбор, и 15 октября 1967г. Асика официальным письмом заявил о своем согласии вступить в должность.
В его письме меня поразило полное отсутствие каких-либо требований, касающихся личных удобств и гарантий безопасности. Тони просил лишь обеспечить ему возможность эффективно работать: ввести в действие Радио Энугу, предоставить оборудование для ведения агитации, выделить штат сотрудников и так далее. Дружелюбие Асики, его искренняя преданность общенациональному делу быстро завоевали ему симпатии офицеров и солдат 1-й дивизии, встретивших его первоначально скептически, с подозрением, граничившим с враждебностью. В течение всей войны, несмотря на ее трудности, он показал себя с лучшей стороны, оправдав оказанное ему доверие и сделав все возможное для ускорения процесса примирения и возвращения своих соплеменников на орбиту общенациональной жизни сразу же после окончания гражданской войны.
Через полгода после того, как 1-я дивизия вошла в Энугу, несмотря на поражение мятежников на Среднем Западе, в Калабаре и Порт-Харкорте, борьба за отделение все еще продолжалась. Наступление 1-й дивизии на юг развивалось ровно, но медленно: мятежники весьма хитроумно использовали естественные и искусственные препятствия, а также новое оружие - "огбунигве" ["Огбунигве" - примитивная самодельная бомба, начиненная осколками битых бутылок, кусками металла и гвоздями, перемешанными с взрывчаткой. Ее взрывали с помощью дистанционного управления в гуще наступающих, что наносило опасные и часто смертельные раны. Обычно бомба была хорошо замаскирована.- Прим. авт.]. Во время одного из моих посещений саперных частей и подразделений 1-й дивизии я был свидетелем кровопролитного боя в ходе наступления 22-го батальона на Ачи. Я видел, как часть капитана Ндакотсу упорно расчищала препятствия и восстанавливала мосты, одновременно ведя рукопашный бой. Не самые лучшие условия для саперных работ иметь винтовку в одной руке, а разводной ключ - в другой.
Наступление продолжалось, и все контратаки, в которые мятежники шли без былого воодушевления, отбивались. Во время одной из них 3 сотрудника Красного Креста, не успевшие укрыться в окопах, попали под перекрестный огонь и были убиты. Как и следовало ожидать, западная пресса, и без того недружественно настроенная, принялась осуждать "зверства федералистов"; вновь прозвучали требования допустить в страну международных наблюдателей, на что федеральное правительство было вынуждено согласиться.
Мятежники старались использовать для обеспечения победы все средства и возможности. В Окигве федеральные войска были встречены группой приветствовавших их прокаженных. Солдаты отнеслись к ним гуманно, хорошо о них заботились, не подозревая, что те были шпионами Биафры. Войска стали жертвой нескольких налетов и засад, успешных благодаря информации, переданной мятежникам прокаженными, прежде чем поняли, с кем имеют дело. После этого прокаженных изолировали и стали держать под наблюдением. За падением Окигве последовала обычная для 1-й дивизии основательная, "по учебнику", реорганизация и довооружение, что дало мятежникам еще одну возможность организовать оборону, пополнить свои запасы и нанести федералистам ряд чувствительных ударов.
К 27 марта 1969г. 1-я дивизия была готова к наступлению на двух фронтах - на Бенде и Умуахию. 1-й сектор наступал на Умуахию 4-м, 21-м, 25-м, 44-м и 83-м батальонами. Когда 4-й батальон готовился к атаке, вражеская пуля смертельно ранила его командира майора Адо Мохаммеда, что поставило наступление под угрозу срыва еще в самом начале. Смерть майора Мохаммеда хотя и оказала деморализующее воздействие на солдат, но не имела фатальных последствий для операции в целом. Заместитель командира лейтенант Стив Йомбе возглавил батальон и показал себя с хорошей стороны.
Дороги, по которым приходилось двигаться федеральным войскам, были разрушены; на обширных участках мятежники устраивали завалы из стволов деревьев. Франция предоставила сепаратистам бронемашины "Панар", которые представляли смертельную угрозу для федеральных войск, привыкших наступать по дорогам. Потери в людях и снаряжении уже после 5км наступления 25-го батальона были настолько тяжелыми, что батальон был снят с фронта как небоеспособный. Войска были растеряны и дезорганизованы. Тем не менее федералисты под командованием майора Бабангиды надежно удерживали Узуаколи, хотя Биафра и сообщила о мнимом захвате этого города и убедила, как это часто случалось, своих сторонников на Би-би-си разнести эту ложь по всему миру.
4 апреля майор Бабангида был ранен около Узуаколи. Батальон возглавил друг Бабангиды по школе и взводу майор Мамман Ватса, не менее энергичный и способный офицер. К 13 апреля все контратаки мятежников были отбиты, и федералисты продолжали наступление на Умуахию, избегая дорог. 22 апреля 21-й и 44-й батальоны вошли в Умуахию, пала вторая столица Биафры. Позднее около ста местных жителей-ибо, почти не надеясь на помощь, поскольку они верили рассказам о геноциде, обратились в полицейский участок города и были тепло приняты федеральными войсками, обеспечены жильем и накормлены. Они рассказали о страданиях, перенесенных ими в мятежном анклаве. Они были удивлены и обрадованы приемом, который им оказали федералисты.
Наступление 2-й дивизии на Бенде развивалось успешно. 14 апреля город был взят. На начальной стадии продвижения к Бенде и Умуахии необходимая поддержка авиации отсутствовала, поскольку к тому времени Лагос еще не получил обещанных самолетов. Когда летчики ВВС Нигерии в конце концов поднялись в воздух, они начали, как это иногда случается на войне, делать ошибки: несмотря на тщательно отработанную связь с наземными частями, они наносили удары по своим. На перекрестке Абриба в результате атаки своих собственных ВВС погибли 4 солдата 26-го батальона. Под Узуаколи, когда 44-й батальон попросил поддержать его с воздуха, ВВС отбомбились по артиллерийской позиции своих же частей.
1969 год был годом интенсивных и разнообразных дипломатических усилий, направленных на достижение политического решения нигерийского кризиса и окончание гражданской войны. Под эгидой Содружества наций прошли переговоры в Лондоне, затем была встреча в Кампале. ОАЕ организовала переговоры в Ниамее, затем в Алжире и Аддис-Абебе. Провал всех этих встреч объяснялся диаметрально противоположными позициями федералистов и мятежников и нежеланием обеих сторон идти на какие-либо уступки. Для федеральной стороны обсуждение любых политических вопросов должно было проходить на основе принципа "единая страна - единый народ". С точки зрения сепаратистов, Нигерия и Биафра, как две разные страны, должны были выявить и рассмотреть вопросы сотрудничества, особенно в области общей инфраструктуры и экономики. Следует также учесть, что намерения некоторых инициаторов этих переговоров были не совсем альтруистическими. Кое-кто желал по возможности мирного раздела Нигерии, другим хотелось бы получить Нобелевскую премию мира за свою роль в урегулировании нигерийского кризиса. В конце концов военные руководители поняли, что конец гражданской войне может быть положен лишь на поле боя, а не за столом переговоров.
К апрелю 1968г. война, которую первоначально планировалось закончить через месяц взятием Энугу, длилась уже 10 месяцев, и конца ей видно не было. Университетский город Нсукка, сельскохозяйственные центры Окигва, Умуахия и Бенде, цементный завод в Нкалагу, город Огоджа и столица Биафры Энугу были взяты войсками 1-й дивизии, но это не сломило ни боевого духа мятежников, ни их сопротивления. Пропаганда сепаратистов и страх геноцида, порожденный кровавыми инцидентами, происшедшими перед началом войны в других частях страны, питали сопротивление Биафры. Осторожность командования 1-й дивизии и то, что оно постоянно упускало благоприятные возможности для нанесения решающего удара, позволяло мятежникам после каждого поражения получать передышку. Тем не менее 1-я дивизия медленно, но верно продвигалась вперед, 2-я и 3-я дивизии развивали наступление на южном и среднезападном направлениях.
Многие деятели федеральной стороны, разумно оценивающие общую ситуацию, уже начиная с апреля 1967г. все больше убеждались, что с разрывом абурийского соглашения и учитывая непреклонную позицию Оджукву гражданская война становится неизбежной. Следует отметить, что такие сторонники жесткого курса, как полковник Муртала Мохаммед, утверждали, что промедление с началом наступления на Восток приведет к еще более кровавым и тяжелым последствиям.
Именно это твердое убеждение полковника Мурталы Мохаммеда и тайные шаги к осуществлению жесткого курса на практике вызвали второе открытое столкновение и разрыв между ним и главой государства генерал-майором Якубу Говоном.
Биафрская "декларация об отделении" только усугубила опасность возникновения войны. К маю 1967г. подготовка к боевым действиям шла полным ходом. Уже к этому времени четыре из шести пехотных батальонов входили в состав 1-й бригады, реорганизованной после Абури в 1-е оперативное соединение. Главнокомандующий объявил мобилизацию бывших военнослужащих. Из 7тыс. призывников были сформированы 20-й, 21-й, 22-й и 23-й батальоны. Начался призыв в армию личного состава федеральной и местной полиции. Власти на Севере получили задание от председателя временных административных служб Севера проводить с населением занятие по гражданской обороне и разработать планы эвакуации из больших городов на случай массированных воздушных налетов.
Была ускорена закупка заказанного армией в 1966г. оружия и снаряжения. Поскольку существующих запасов для обеспечения мобилизации явно не хватало, на ряд доверенных чиновников в Лагосе и Кадуне, помимо их обычных дел, были возложены обязанности по приобретению оружия, боеприпасов и снаряжения, необходимого для ведения войны. Для местных и международных торговцев оружием и посредников наступили счастливые дни. Хаотичная и ненадежная система снабжения армии была характерна для всего периода войны. Ситуация еще более ухудшилась, когда некоторые западные страны приняли решение наложить эмбарго на поставки оружия и боеприпасов федеральному правительству.
По первоначальным планам боевые действия должны были вестись войсками, расположенными на Севере, а снабжаться они должны были в основном из Кадуны. Таким образом, на первой стадии войны Кадуна в определенной степени разделяла с Лагосом функции политического и оперативного штаба.
Планом штаба армии предусматривалось, что война будет вестись в четыре этапа: будут взяты Нсукка, Огоджа, Абакалики, и все закончится через месяц взятием Энугу. Это дало основание полковнику Хассану Кацине сделать свое знаменитое предсказание, которое гласило, что война будет закончена в течение 48 часов. В наступательных операциях основной боевой силой должно было стать 1-е оперативное соединение, 2-му оперативному соединению в Ибадане было поручено обеспечение порядка в штате, 4-му в Бенине - оборона Среднего Запада и границ. Гарнизон Лагоса, из которого впоследствии была выделена 3-я дивизия, должен был оборонять столицу. Предварительная оценка федералистами боеспособности армии мятежников, ее личного состава, вооружения и снаряжения не давала штабу нигерийцев особых оснований для беспокойства. По всей вероятности, была недооценена способность мятежников немедленно осуществить полную мобилизацию для отпора превосходящим силам противника.
Мятежники начали форсированную подготовку к войне, как только войска невосточного происхождения покинули Энугу в августе 1966г. Приток добровольцев был так велик, что Фредерик Форсит в своей книге "История Биафры" утверждает, будто бы только 10% из их числа могли быть приняты на военную службу. Началась подготовка рядовых и офицеров на специальных курсах, слушателями которых были в основном студенты и преподаватели университета в Нсукке. Планы этой подготовки уже тогда предусматривали ведение тотальной войны. Выступая в мае 1967г. перед национальным комитетом примирения в Энугу, подполковник Оджукву сказал: "Я начал борьбу в июле 1966г., когда у меня было всего 120 винтовок для обороны Востока. Я возглавил движение, полностью сознавая, что, хотя мое имя и войдет в историю, я одновременно подписываю себе смертный приговор. Но я верю, что это было жизненно необходимо для всего Юга. Я не стал тратить силы на бессмысленные призывы к миру, потому что понимал, что идет откровенная борьба за власть и мы сможем вести переговоры о будущем Нигерии на равных только тогда, когда ликвидируем отставание в области вооружения. И я начал над этим работать. Должен сообщить, если вы этого не знаете, что сейчас на Востоке мы имеем самую большую армию в Африке, и я и мои офицеры гордимся этим. Я говорю уже не как слабейшая сторона, я выступаю с позиции силы. Я не собираюсь обрушивать на противника всю разрушительную мощь моей армии. В мои намерения не входит воевать, пока на меня не нападут. Но если это случится, я разгромлю агрессора" [The Collapse of a Rebellion and Prospect for Lasting Pease. Lagos. 1968, p.97].
Хотя Оджукву была свойственна любовь к преувеличениям и гиперболам, не было сомнений в том, что к тому времени он уже получил оружие и боеприпасы из французских, испанских и португальских источников, а также гарантировал себе поддержку наемников из Франции и ЮАР, в то время как федералисты получили лишь стрелковое оружие из Великобритании, Италии и Западной Германии.
2 июля 1967г. 1-е оперативное соединение получило приказ о начале операции "Юникорд" - короткой "полицейской операции" против мятежников. Соединение было разделено на две бригады, по три батальона в каждой. В 5 часов утра 6 июля 1967г. войска соединения перешли в наступление, и к восходу солнца бои завязались по всему фронту. 21-й батальон, наступавший на Нсукку, без труда преодолевал сопротивление мятежников вплоть до Обукпы. Здесь мятежники успешно атаковали батальон с воздуха, используя старый американский Б-26. Его пилотировал тихий поляк по фамилии Браун, прозванный Камикадзе за отчаянную храбрость. Моральный эффект, произведенный на солдат воздушным нападением, был огромен. Угроза налета Б-26 была постоянной до тех пор, пока в сентябре он не был выведен из строя на земле, в аэропорту Энугу.
Чтобы опровергнуть обвинения в оказании поддержки мятежникам, американцы сделали следующее заявление по поводу Б-26: "Самолет, участвующий, как сообщается, в операциях в бывшем Восточном регионе Нигерии, ранее принадлежал ВВС Франции, продавшим его за ненадобностью. Хотя самолет имеет американский регистрационный номер, ни одно ведомство в США не выдавало на него сертификата о годности к полетам, откуда следует, что данная регистрация фальшивая. Имеющаяся о самолете информация свидетельствует о том, что в июне бельгийский пилот перелетел на нем из Остенде в Лиссабон, где самолет был, как утверждается, продан французскому гражданину. С незаконным регистрационным номером и без сертификата о годности к полетам самолет был пилотирован французским экипажем из Лиссабона в Дакар и Абиджан, а затем в Энугу".
21-й и 22-й батальоны продолжали наступление и к 13 июля находились в 3км от Нсукки. Значение университетского города для мятежников как духовного и интеллектуального центра нельзя было недооценивать. Ожидалось, что они будут защищать его с особым упорством. Тем не менее капитан Вушуши во главе 21-го батальона вошел в Нсукку 14 июля. Мятежники предприняли ряд контратак, но безуспешно. При наступлении федералистов погиб сводный брат Оджукву, Том Биггер. На нем был найден пропуск, подписанный майором Нзеогву. Сам же Чуквума Нзеогву погиб около Нсукки 26 июля 1967г., производя ночью разведку позиций федералистов.
Этот блестящий молодой офицер разработал план январского переворота 1966г. и непосредственно руководил им. Он попал в засаду, пытаясь вернуть Нсукку мятежникам. Как получилось, что Нзеогву оказался на стороне сепаратистов, тогда не было ясно; ранее в письме ко мне он говорил о желании сражаться за единство Нигерии, а не за ее раскол. Я близко знал его и уважал за здоровый национализм и пан-африканские взгляды. Слова одного близко знавшего Чуквуму Нзеогву офицера выражают и мое мнение о нем: "В 29 лет этот загадочный майор Нзеогву является одним из самых способных офицеров в истории Нигерии. Он известен как националист, не имеющий каких-либо трайбалистских наклонностей. В войсках его любят за храбрость и простоту в обращении, а коллеги-офицеры уважают за высокий профессионализм и даже побаиваются за непобедимую логику в спорах. Это солдат, чье имя вызывает в Нигерии чувства любви и восхищения. Он честен и надежен". Тело Нзеогву доставили в Кадуну, где он из уважения к его подлинному патриотизму был похоронен со всеми воинскими почестями.
Во время наступления на Энугу из-за ненужного риска и отчаянной смелости погиб один из наиболее многообещающих африканских поэтов, Крис Окигбо.
9 августа 1967г. мятежники вступили на территорию Среднего Запада и полностью подчинили себе штат. Это приостановило продвижение 1-го оперативного соединения, но не деморализовало войска. 3-й батальон был отправлен из Ибадана в Окене с целью предотвратить проникновение мятежников со Среднего Запада на Север. До этого батальон сражался в районе Нсукки.
Мятежники продвинулись на Запад до Оре. К этому времени федералисты сформировали 2-ю пехотную дивизию под командованием полковника Мурталы Мохаммеда, а части на Севере, именуемые ранее 1-м оперативным соединением, стали называться 1-й пехотной дивизией; командовать ею был назначен полковник Мохаммед Шува. Части лагосского гарнизона, действующие на Юге под командованием полковника Бенджамина Адекунле, стали называться 3-й пехотной дивизией. Итак, "полицейская акция" обернулась затяжной военной компанией.
Наступление 1-й пехотной дивизии на юг было медленным, так как она действовала в районах, населенных преимущественно ибо, и за каждый сантиметр территории приходилось сражаться. Наступление, однако, проходило без значительных задержек и было достаточно хорошо скоординированно, так как войска дивизии уже имели необходимый опыт и подготовку. Осторожное, медленное продвижение 1-й дивизии, не ставящее своей целью быстрый и решительный разгром противника за счет рискованных операций, все же продолжало оказывать давление на мятежников.
Являясь столицей Восточного региона, а впоследствии Восточно-Центрального штата, Энугу стал бастионом сепаратизма. Федеральная сторона предполагала, что его захват будет означать окончание войны. Штурм Энугу был поручен 1-й бригаде под командованием подполковника Т.Я.Данджумы, который разрабатывал план этой операции в течение 6 недель.
10 сентября 1967г. мятежники в трех местах атаковали оборонительные позиции 1-й бригады; либо они надеялись нанести упреждающий удар, либо их воодушевили успехи на Среднем Западе, как бы то ни было, выиграли от этого федералисты. Впервые в этой зоне боевых действий мятежники использовали в бою своих "красных дьяволов" - модифицированные французские бронетранспортеры довоенного производства. Хотя эти машины и представляли некоторую опасность, они были медлительны, неуклюжи, с плохим обзором и маневренностью, легко становились жертвой противотанковых ружей и смелых пехотных атак. Наступление дорого стоило мятежникам: они потеряли много людей и снаряжения, в том числе 3 "красных дьявола" с экипажами и их командира майора Мегву.
Мятежники еще не успели оправиться от этой неудачи, когда 12 сентября 1967г. федералисты выступили из Нсукки на Энугу. Наступление развивалось медленно и трудно, так как отступающие мятежники создавали весьма эффективные препятствия продвижению федеральных войск: они рыли на дорогах глубокие ямы, валили большие деревья, создавая возможность для ведения прицельного огня. И наконец 4 октября, за 3 часа с трудом преодолев не сопротивление отступающих мятежников, а два вырытых ими огромных рва, федеральные войска вступили в Энугу.
Собранные во время войны разведывательные данные, подтвержденные впоследствии почти всеми сражавшимися на стороне Биафры, свидетельствовали, что, если бы 1-я дивизия была менее осторожной, действовала оперативнее и не боялась риска, захват Энугу и немедленное преследование мятежников могли бы привести к концу гражданской войны. Однако дивизия сначала затеяла довооружение, реорганизацию, перенесла штаб из Макурди в Энугу и только после этого начала преследование. Мне кажется, что в дивизии разделяли широко распространенное ошибочное мнение, что падение Энугу будет автоматически означать крах мятежа. 1-я дивизия решила дать сепаратистам время прекратить борьбу, не предполагая, что огонь мятежа по-прежнему ярко горит в сердцах большинства жителей Востока. Маскируя свои непомерные амбиции, Оджукву раздувал это пламя, он спекулировал на эмоциях своих весьма чувствительных соплеменников, считавших себя оскорбленными и мечтавших отомстить за трагические события 1966г. Подготовка 1-й дивизии длилась почти полгода, что дало мятежникам необходимую передышку для устройства взлетно-посадочных полос в Обилагу и Ули-Ихиала, а пока они использовали аэродром в Порт-Харкорте для получения необходимого военного снаряжения, превратив Умуахию во временный штаб.
Примерно через неделю после освобождения Энугу я прибыл в Лагос для консультаций с генерал-майором Говоном по поводу общего хода военных действий, в частности, в северном районе. Я выступил с предложением, чтобы сразу же после освобождения Энугу туда был назначен гражданский администратор, говорящий на ибо. Это было необходимо по следующим соображениям. Надо было освободить военное руководство от проблем, связанных с беженцами, и от управления всем комплексом гражданских административных дел: вопросов транспорта, связи, образования, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, заботы о благосостоянии гражданского населения и т.д. Надо было также продемонстрировать добрые намерения правительства по отношению к ибо и его подлинную заботу о них. Надо было опровергнуть распространяемые как дома, так и за границей обвинения в проведении геноцида, назначив представителя национальности ибо управлять центром их территории - столицей раскола Энугу. В результате разговора мне было поручено отыскать в Ибадане или другом месте подходящего человека.
Я вернулся на место службы и связался с властями Ибаданского университета. В отличие от многих ибо, покидавших страну, из проведенного за границей отпуска вернулся Тони Асика. Он отказался от сделанных ему там предложений перейти на место, более выгодное, чем занимаемое им в Ибаданском университете. Это доказывало его веру в будущее Нигерии и преданность родине. После короткого разговора с ним я убедился, что он именно тот человек, которого я искал. На следующий день я повез его в Лагос, чтобы представить главнокомандующему. Учитывая крайнюю важность и деликатность задачи, возлагаемой на Тони Асику, генерал-майор Говон решил навести о нем дополнительные справки до того, как принять окончательное решение. Рассматривались и другие кандидатуры. Через день или два Якубу Говон сделал свой выбор, и 15 октября 1967г. Асика официальным письмом заявил о своем согласии вступить в должность.
В его письме меня поразило полное отсутствие каких-либо требований, касающихся личных удобств и гарантий безопасности. Тони просил лишь обеспечить ему возможность эффективно работать: ввести в действие Радио Энугу, предоставить оборудование для ведения агитации, выделить штат сотрудников и так далее. Дружелюбие Асики, его искренняя преданность общенациональному делу быстро завоевали ему симпатии офицеров и солдат 1-й дивизии, встретивших его первоначально скептически, с подозрением, граничившим с враждебностью. В течение всей войны, несмотря на ее трудности, он показал себя с лучшей стороны, оправдав оказанное ему доверие и сделав все возможное для ускорения процесса примирения и возвращения своих соплеменников на орбиту общенациональной жизни сразу же после окончания гражданской войны.
Через полгода после того, как 1-я дивизия вошла в Энугу, несмотря на поражение мятежников на Среднем Западе, в Калабаре и Порт-Харкорте, борьба за отделение все еще продолжалась. Наступление 1-й дивизии на юг развивалось ровно, но медленно: мятежники весьма хитроумно использовали естественные и искусственные препятствия, а также новое оружие - "огбунигве" ["Огбунигве" - примитивная самодельная бомба, начиненная осколками битых бутылок, кусками металла и гвоздями, перемешанными с взрывчаткой. Ее взрывали с помощью дистанционного управления в гуще наступающих, что наносило опасные и часто смертельные раны. Обычно бомба была хорошо замаскирована.- Прим. авт.]. Во время одного из моих посещений саперных частей и подразделений 1-й дивизии я был свидетелем кровопролитного боя в ходе наступления 22-го батальона на Ачи. Я видел, как часть капитана Ндакотсу упорно расчищала препятствия и восстанавливала мосты, одновременно ведя рукопашный бой. Не самые лучшие условия для саперных работ иметь винтовку в одной руке, а разводной ключ - в другой.
Наступление продолжалось, и все контратаки, в которые мятежники шли без былого воодушевления, отбивались. Во время одной из них 3 сотрудника Красного Креста, не успевшие укрыться в окопах, попали под перекрестный огонь и были убиты. Как и следовало ожидать, западная пресса, и без того недружественно настроенная, принялась осуждать "зверства федералистов"; вновь прозвучали требования допустить в страну международных наблюдателей, на что федеральное правительство было вынуждено согласиться.
Мятежники старались использовать для обеспечения победы все средства и возможности. В Окигве федеральные войска были встречены группой приветствовавших их прокаженных. Солдаты отнеслись к ним гуманно, хорошо о них заботились, не подозревая, что те были шпионами Биафры. Войска стали жертвой нескольких налетов и засад, успешных благодаря информации, переданной мятежникам прокаженными, прежде чем поняли, с кем имеют дело. После этого прокаженных изолировали и стали держать под наблюдением. За падением Окигве последовала обычная для 1-й дивизии основательная, "по учебнику", реорганизация и довооружение, что дало мятежникам еще одну возможность организовать оборону, пополнить свои запасы и нанести федералистам ряд чувствительных ударов.
К 27 марта 1969г. 1-я дивизия была готова к наступлению на двух фронтах - на Бенде и Умуахию. 1-й сектор наступал на Умуахию 4-м, 21-м, 25-м, 44-м и 83-м батальонами. Когда 4-й батальон готовился к атаке, вражеская пуля смертельно ранила его командира майора Адо Мохаммеда, что поставило наступление под угрозу срыва еще в самом начале. Смерть майора Мохаммеда хотя и оказала деморализующее воздействие на солдат, но не имела фатальных последствий для операции в целом. Заместитель командира лейтенант Стив Йомбе возглавил батальон и показал себя с хорошей стороны.
Дороги, по которым приходилось двигаться федеральным войскам, были разрушены; на обширных участках мятежники устраивали завалы из стволов деревьев. Франция предоставила сепаратистам бронемашины "Панар", которые представляли смертельную угрозу для федеральных войск, привыкших наступать по дорогам. Потери в людях и снаряжении уже после 5км наступления 25-го батальона были настолько тяжелыми, что батальон был снят с фронта как небоеспособный. Войска были растеряны и дезорганизованы. Тем не менее федералисты под командованием майора Бабангиды надежно удерживали Узуаколи, хотя Биафра и сообщила о мнимом захвате этого города и убедила, как это часто случалось, своих сторонников на Би-би-си разнести эту ложь по всему миру.
4 апреля майор Бабангида был ранен около Узуаколи. Батальон возглавил друг Бабангиды по школе и взводу майор Мамман Ватса, не менее энергичный и способный офицер. К 13 апреля все контратаки мятежников были отбиты, и федералисты продолжали наступление на Умуахию, избегая дорог. 22 апреля 21-й и 44-й батальоны вошли в Умуахию, пала вторая столица Биафры. Позднее около ста местных жителей-ибо, почти не надеясь на помощь, поскольку они верили рассказам о геноциде, обратились в полицейский участок города и были тепло приняты федеральными войсками, обеспечены жильем и накормлены. Они рассказали о страданиях, перенесенных ими в мятежном анклаве. Они были удивлены и обрадованы приемом, который им оказали федералисты.
Наступление 2-й дивизии на Бенде развивалось успешно. 14 апреля город был взят. На начальной стадии продвижения к Бенде и Умуахии необходимая поддержка авиации отсутствовала, поскольку к тому времени Лагос еще не получил обещанных самолетов. Когда летчики ВВС Нигерии в конце концов поднялись в воздух, они начали, как это иногда случается на войне, делать ошибки: несмотря на тщательно отработанную связь с наземными частями, они наносили удары по своим. На перекрестке Абриба в результате атаки своих собственных ВВС погибли 4 солдата 26-го батальона. Под Узуаколи, когда 44-й батальон попросил поддержать его с воздуха, ВВС отбомбились по артиллерийской позиции своих же частей.
1969 год был годом интенсивных и разнообразных дипломатических усилий, направленных на достижение политического решения нигерийского кризиса и окончание гражданской войны. Под эгидой Содружества наций прошли переговоры в Лондоне, затем была встреча в Кампале. ОАЕ организовала переговоры в Ниамее, затем в Алжире и Аддис-Абебе. Провал всех этих встреч объяснялся диаметрально противоположными позициями федералистов и мятежников и нежеланием обеих сторон идти на какие-либо уступки. Для федеральной стороны обсуждение любых политических вопросов должно было проходить на основе принципа "единая страна - единый народ". С точки зрения сепаратистов, Нигерия и Биафра, как две разные страны, должны были выявить и рассмотреть вопросы сотрудничества, особенно в области общей инфраструктуры и экономики. Следует также учесть, что намерения некоторых инициаторов этих переговоров были не совсем альтруистическими. Кое-кто желал по возможности мирного раздела Нигерии, другим хотелось бы получить Нобелевскую премию мира за свою роль в урегулировании нигерийского кризиса. В конце концов военные руководители поняли, что конец гражданской войне может быть положен лишь на поле боя, а не за столом переговоров.
К апрелю 1968г. война, которую первоначально планировалось закончить через месяц взятием Энугу, длилась уже 10 месяцев, и конца ей видно не было. Университетский город Нсукка, сельскохозяйственные центры Окигва, Умуахия и Бенде, цементный завод в Нкалагу, город Огоджа и столица Биафры Энугу были взяты войсками 1-й дивизии, но это не сломило ни боевого духа мятежников, ни их сопротивления. Пропаганда сепаратистов и страх геноцида, порожденный кровавыми инцидентами, происшедшими перед началом войны в других частях страны, питали сопротивление Биафры. Осторожность командования 1-й дивизии и то, что оно постоянно упускало благоприятные возможности для нанесения решающего удара, позволяло мятежникам после каждого поражения получать передышку. Тем не менее 1-я дивизия медленно, но верно продвигалась вперед, 2-я и 3-я дивизии развивали наступление на южном и среднезападном направлениях.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА III. РЕШАЮЩИЙ ПОВОРОТ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В период кризиса 1966г. я служил в Кадуне, откуда в январе 1967г. меня перевели в Лагос на должность начальника инженерных войск. Разброд в армии и уход из ее рядов ибоговорящих военнослужащих, вернувшихся на родину, весьма болезненно отозвался на инженерных войсках: более 50% солдат и офицеров, почти все высококвалифицированные специалисты, отправились домой. Основной задачей, стоявшей перед командованием сразу же после кризиса, было обучение личного состава на всех уровнях необходимым навыкам, чтобы заполнить брешь, вызванную уходом наших коллег-ибо. К началу войны мы справились с этой задачей: на учебу за границу посылалось столько солдат и офицеров, сколько было возможно, из квалифицированных студентов гражданских учебных заведений был произведен специальный набор в инженерные войска. Все эти меры дополняли расширенную и углубленную программу курсов при инженерном учебном отделении в Кадуне.
После создания новых штатов и образования Биафры, когда над страной нависла угроза гражданской войны, глава государства и главнокомандующий вооруженными силами генерал-майор Якубу Говон по совету группы офицеров, опасавшихся за положение дел на Западе, решил направить меня в Ибадан, чтобы возглавить 2-е оперативное соединение. Я принял командование от полковника О.Олутойе 3 июля 1967г. Перед отъездом из Лагоса я спросил главнокомандующего, имею ли я право, учитывая обстановку, провести коренную реорганизацию. Он приказал мне соблюдать осторожность. В то время 2-е оперативное соединение состояло практически из одного 3-го батальона, обученного и полностью снаряженного. Около дороги на Иво под командованием майора Ола Баджова началось формирование 11-го батальона, который не насчитывал и 700 человек личного состава. В батальоне имелось менее 100 исправных винтовок при 20 патронах на каждую, 1 пулемет, 1 миномет, не было ни одного орудия и всего 1 комплект обмундирования на человека. Батальон располагал также "лендровером" и 2 грузовиками.
Отношения между солдатами северного и западного происхождения были, мягко говоря, плохими, а между солдатами-северянами и гражданским населением Западного штата они были на грани открытого конфликта. Причиной этого было заносчивое и высокомерное поведение солдат северного происхождения и проводимая среди солдат и гражданского населения Западного штата агитация против "северных войск". Моей первой задачей было восстановление взаимного доверия как в солдатской среде, так и между солдатами и гражданскими. Я обнаружил, что, кроме традиционного объединения против чужаков на этнической основе, острой причиной конфликтов и взаимных подозрений явились различия в языке. "Северные войска", как их называли на Западе, опасались, что солдаты-йоруба "вонзят им нож в спину", объединившись с местным гражданским населением. А солдаты-йоруба, которых было гораздо меньше, предпочитали ночевать вне казарм, боясь за свою жизнь. Конечно, играли свою роль и измышления о "северном господстве", которым, несмотря на создание новых штатов, некоторые люди верят еще и сегодня. Действия некоторых офицеров не только не помогали исправить положение, но, наоборот, усугубляли его. Солдаты объединялись по этническому признаку в группы, командовать которыми можно было только на их родном языке. Если непосредственный командир не являлся его соплеменником, солдат предпочитал обращаться к офицеру, не имеющему отношения к части, в Лагосе или Кадуне, но принадлежащему к его этнической группе.
Я распорядился, чтобы средством общения в частях стал отныне официальный язык страны - английский. Всем солдатам было приказано ночевать в казармах, пресекались любые действия, наносящие ущерб гражданскому населению. Нарушители сурово наказывались. Не исключались и телесные наказания, оказавшиеся весьма действенными. Вспоминается история с одним сержантом 3-го батальона, который без разрешения поехал на армейском "лендровере" в Лагос, чтобы повидать своего "брата" генерал-майора Якубу Говона и доложить ему о положении дел в Ибадане через голову старших офицеров своей части и оперативного соединения. Сержант был из народности ангас. Об этом случае доложили мне. Я распорядился, чтобы сержанту было официально предъявлено обвинение в нарушении воинской дисциплины и в использовании государственного транспорта в самовольной поездке. Его часть передала дело мне на рассмотрение.
Сержанта привели ко мне, и после предъявления обвинения он признал себя виновным. Тогда я связался по телефону с главой государства, чтобы информировать его о поступке сержанта и о том, что он сам косвенно поощряет подобные выходки.
Якубу Говон выразил сожаление по этому поводу. Сержант был сурово наказан в соответствии с законами военного времени. Это положило конец таким случаям. В течение короткого времени среди солдат было восстановлено взаимное доверие и дисциплина, а между солдатами и гражданскими зародилось взаимопонимание.
6 июля 1967г., ровно через 3 дня после того, как я вступил в должность и только начал осваиваться, война докатилась до границ Бенуэ-Плато и Восточно-Центрального штатов. Через 2 недели 3-й батальон был направлен из Ибадана в Нсукку на помощь боевым частям. Все усилия отменить приказ о перемещении батальона из Ибадана, что открывало путь мятежникам на Запад и Лагос, были безуспешными, его присутствие в Нсукке считалось более важным. 2-е оперативное соединение в Ибадане имело в тот момент всего 700 с небольшим неопытных, плохо вооруженных и снаряженных людей в 11-м батальоне майора Баджовы. Действия же 3-го батальона, когда он был брошен в бой в составе 1-й бригады в районе Нсукки, оставляли желать много лучшего. Причины были очевидны. Батальон по этническому составу был довольно пестрым, в него входили и северяне и йоруба. Взаимное недоверие, о котором говорилось ранее, испортило отношения в войсках. Офицеры не проявляли ни преданности делу, ни умелого руководства. Западный штат тогда еще относился к войне безразлично, и это, естественно, сказывалось на боевом духе солдат с Запада: оказавшись на фронте, некоторые их них дезертировали, бросив своих товарищей.
В силу этнического состава и географического положения Среднезападного штата симпатии к противоборствующим сторонам распределились там примерно поровну. Администрация подполковника Эджура, стремясь сохранить нейтралитет, придерживалась среднего курса между Нигерией и Биафрой, но проницательные наблюдатели сомневались, что такое положение удастся сохранить надолго. Федеральное правительство в дела штата не вмешивалось.
У Оджукву со Средним Западом были связаны определенные планы. Еще будучи младшим офицером, он вынашивал честолюбивые политические замыслы. Возможность их осуществления появилась после январского переворота, с его назначением военным губернатором Восточного региона. Немедленно после переворота он стал одним из тех, кто определял взаимоотношения между Лагосом и Кадуной. Оджукву рассматривал свою должность как стартовую площадку для того, чтобы любыми средствами пробиться на национальную политическую орбиту. Июльский переворот, как могло показаться, передвинул чашу весов в пользу Оджукву. Из опыта личного общения с ним, когда мы были младшими офицерами в Кадуне, я знал, что ему были свойственны политическая чуткость и тонкое понимание обстановки. Нет сомнений в том, что Оджукву считал успешное неожиданное вторжение на Средний Запад с последующим наступлением на Запад и Лагос основной операцией на первом этапе осуществления своего амбиционного плана захвата власти в стране.
План вторжения на Средний Запад подготавливался тайно, под личным руководством Оджукву. Краткий рассказ Фредерика Форсита о его разработке и проведении в жизнь дает общее представление о вторжении войск Биафры на территорию Среднего Запада: "На рассвете тайно подготовленная мобильная бригада из 3тыс. человек ворвалась через мост в Ониче на Средний Запад. Через 10 часов штат пал. Были захвачены города Варри, Сапеле, нефтяной центр в Угели, Агбор, Уроми, Убиаджа и Бенин. О небольшой армии Среднего Запада ничего слышно не было: 9 из 11 ее старших офицеров были ика-ибо, очень близкие по крови к ибо Биафры, и, вместо того чтобы сражаться, они приветствовали войска мятежников" [Forsyth F. Biafra Story. London, 1969, p.116].
Оджукву воспользовался недостатком боеспособных частей на Западе и положением на Среднем Западе, где ибоговорящие офицеры составляли абсолютное большинство, чтобы захватить в свои руки власть в Среднезападном штате без сколько-нибудь серьезных жертв.
При содействии подполковника Виктора Банджо, офицера-йоруба, заподозренного в причастности к подготовке первого переворота и задерживаемого с тех пор в Энугу, Оджукву разработал и осуществил свое вторжение на Средний Запад силами бригады из трех батальонов. Развивая наступление на западном, южном и центральном направлениях, эти батальоны должны были взять Лагос в клещи. Учитывая полную поддержку со стороны Среднего Запада, возможность появления большого количества квислингов на Западе и, наконец, то обстоятельство, что операцией руководил подполковник Виктор Банджо, этот план нельзя было назвать безрассудным или невыполнимым. Уверенность Оджукву в успехе показывает фраза, брошенная им в 2 часа ночи 9 августа 1967г.: "Мои войска сейчас, должно быть, уже подходят к Лагосу". Как бы то ни было, кроме удовлетворения непомерного честолюбия, этот шаг был необходим Оджукву для поднятия боевого духа своих войск, упавшего после сдачи Нсукки и нефтяного порта Бонни. Операция также должна была произвести соответствующее впечатление на его заграничных союзников и показать им, что он способен подкреплять слова делом. Но важнее всего было ослабить растущее давление на Энугу и Порт-Харкорт и захватить в Среднезападном штате военное снаряжение, чтобы снабдить им войска, защищающие эти два города. Поставленные задачи были в целом решены молниеносными действиями Оджукву на Среднем Западе, хотя конечной цели - захвата Лагоса и Ибадана - достичь не удалось. В то же время он оттолкнул от себя неибовское население Среднего Запада и Йоруба Запада и Лагоса.
Как только утром 9 августа 1967г. я узнал о событиях на Среднем Западе, я принял меры по укреплению заградительных постов в Оре, Офон, Ируа, Собе, Игбатаро, Иреле и Окитипупа, чтобы воспрепятствовать свободному проникновению сепаратистов в Западный штат. Это сорвало первые попытки мятежников прорваться к Лагосу и Ибадану.
Незадолго до этого меня пытались подкупом заставить открыть путь войскам Оджукву на Запад. Так, от лица Виктора Банджо со мной вел переговоры один известный драматург. В ночь нападения мятежников на Средний Запад в моей спальне вскоре после полуночи зазвонил телефон (впервые после того, как я вселился в этот дом). Уверенный голос сказал, что он имеет для меня сообщение и вскоре перезвонит. Через 2 часа тот же неизвестный человек снова позвонил мне и передал от имени Виктора Банджо, чтобы я "не волновался", не объясняя, что происходит. К утру стало известно, что мятежники начали вторжение. Через некоторое время я доложил главе государства о ночном происшествии. Он серьезно предостерег меня относительно некоторых деятелей Западного штата, тайно сочувствующих мятежникам.
Во второй половине дня опять раздался звонок. Все это стало меня раздражать. Я попросил неизвестного о встрече в 8 часов вечера, избрав ее местом бензоколонку у перекрестка дорог на Ибаданский политехнический институт и Оре. Мой собеседник прибыл на место вовремя. Я пригласил его к себе в машину, и мы в течение почти 2 часов ездили по городу и обсуждали сделанное мне Банджо предложение открыть ему дорогу на Ибадан и Лагос в обмен на любое мое требование. Я отказался. Позже выяснилось, что мой собеседник и тот, кто привез его к месту встречи, прозвали меня за это "Я выполняю свой долг". К своему удивлению, я потом узнал, что мы оба просили своих друзей вести за нами наблюдение во время этой встречи. Фредерик Форсит в книге "История Биафры" утверждает, что "Банджо передал вождю Аволово послание" [Ibid, р.118], по-видимому, через того же посредника, содержащее предложение ликвидировать Оджукву и сместить Говона.
В то время я был серьезно обеспокоен тем обстоятельством, что в Восточном регионе находилось большое количество офицеров западного происхождения, оказавшихся там вследствие их подлинного или мнимого участия в первом перевороте. Много было и таких, кто попал в плен к мятежникам. Вообще на стороне Биафры сражалось офицеров с Запада больше, чем было у меня в Ибадане. Мятежники, готовясь к наступлению, получили детальную информацию о силе и дислокации наших войск через завербованных ибо - лесорубов и сборщиков какао-бобов, живущих в районе Оре. Нападение удалось бы полностью, не перенеси мы своевременно наши позиции и не замаскируй их. По чистой случайности миномет мятежников вывел из строя наш единственный 81-мм миномет и рацию. Несмотря на это, мы застали противника врасплох, когда он напоролся на наши позиции на 15км ближе, чем предполагал. Наши молодые и необстрелянные солдаты проявили незаурядную выдержку и, только когда передовой взвод мятежников и "красный дьявол" подошли совсем близко, открыли огонь в упор. Стрелковым оружием никак не удавалось вывести из строя самодельный танк, тогда мы облили его бензином и подожгли. После кровопролитного и яростного боя, длившегося всю ночь, мятежники отошли, бросив обугленный "красный дьявол" с 5 сгоревшими членами экипажа. Наши потери составили 3 убитых и 5 раненых. Войска прошли крещение огнем и сорвали первую попытку врага пробиться в Лагосу и Ибадану. Даже самодельный танк со стальной броней в четверть дюйма толщиной не испугал их. К полудню 12 августа наши части отошли на 25км к карьеру у Оту, поскольку у них кончились боеприпасы и прервалась связь со штабом.
Весьма важно отметить, что 11 августа в доме католического священника отца Руни в Бенине произошла секретная встреча между Виктором Банджо и подполковником Эджуром, который здесь скрывался. Банджо, прибывший в сопровождении подполковника Нваджеи и еще одного офицера, проинформировал Эджура о своих целях и предложил смещенному губернатору присоединиться к нему. Привлечь Эджура на свою сторону не удалось, он решительно отказался от предложенного ему поста в "правительстве" Банджо на Среднем Западе и в Лагосе. Хотя Банджо был разочарован позицией Эджура, это не поколебало его уверенности в том, что еще этой ночью ему самому удастся войти в Лагос. На самом деле получилось по-другому.
Мятежники понесли большие потери, но и мы нуждались в пополнении. Новые солдаты, по большей части северного происхождения, не могли понять, почему они должны покидать Лагос, чтобы защитить Запад, где активно велась пропаганда против "северных войск". Тем не менее капитану Эджиге удалось в достаточной степени контролировать положение в своем батальоне. Мятежники продолжали наступление и добились некоторых успехов. Фредерик Форсит утверждает, что 20 августа "Говон приказал подготовить свой личный самолет для бегства на Север, в Зарию" [Ibid, р.117], и что только британское и американское вмешательство предотвратило выполнение этого плана. Если бы такой план действительно существовал и если бы о нем стало известно, это оказало бы деморализующее воздействие как на федеральные войска, так и на гражданское население, а его осуществление означало бы конец единой Нигерии.
Мятежники были задержаны, по крайней мере временно, у Оре, и наступление на Ибадан и Лагос было остановлено. Передышка позволила федералистам в спешном порядке сформировать 2-ю дивизию под командованием полковника Мурталы Мохаммеда. Она дожна была очистить от мятежников отдельные районы Запада и большую часть Среднего Запада. Это был решающий поворот в гражданской войне. Оджукву допустил весьма серьезную ошибку, сместив нейтральное, если не сочувствующее ему, правительство Среднезападного штата и осуществив вторжение на Запад. Продолжением этой ошибочной политики были воздушные налеты на Лагос и попытки с помощью диверсантов взорвать ряд важных сооружений в столице. Неибовское население Среднего Запада, а также йоруба наконец полностью осознали опасность "ибовского господства", угнетения и несправедливости, которые бы стали их уделом в случае победы мятежников. Война безжалостно вошла в дома народов Среднего Запада и была совсем близко от йоруба Запада и Лагоса. Это заставило их сплотиться вокруг федерального военного правительства и поддержать его усилия по разгрому мятежа. Многие молодые люди из этих районов вступали в ряды армии.
С этого момента все народности страны оказались вовлеченными в гражданскую войну, которую многие ранее представляли себе как войну между хауса Севера и ибо Востока. Лозунг "Единая Нигерия" стал весьма популярным, начались добровольные пожертвования и деньгами и натурой в фонд армии. Оджукву утратил всякую поддержку йоруба на Среднем Западе и окончательно разоблачил себя перед народом как жестокий и себялюбивый человек, стремящийся только к личной власти.
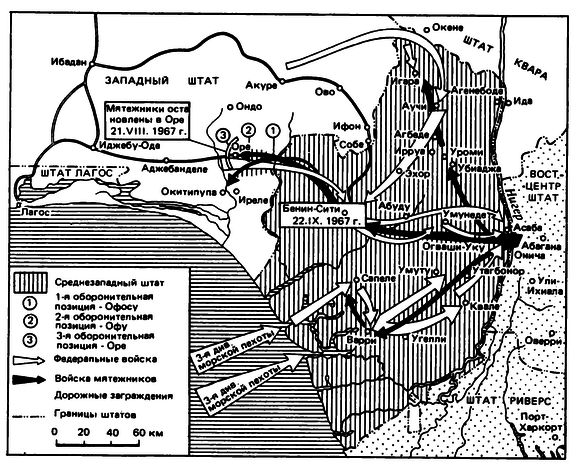
ГЛАВА IV. ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ ЗАПАДЕ
Вторжение мятежников на Средний Запад подтвердило правоту офицеров нигерийской армии и федеральных чиновников, выступавших против сложившегося положения, при котором федеральное правительство должно было финансировать и снабжать воинские части Среднего Запада, но не могло осуществлять оперативное руководство ими. Сбылись худшие предсказания: федералистам был нанесен удар в спину. В армейских кругах Лагоса все происходящее считали предательством и верхом нелояльности со стороны старших офицеров Среднего Запада. Часто цитируемое заявление подполковника Д.Эджура о том, что он не позволит превратить свой штат в поле боя, утратило всякий смысл; к этому времени война уже разоряла его штат, а сам он стал беглецом и беспомощным наблюдателем.
В Лагосе была наспех сформирована 2-я дивизия. Она состояла по большей части из конторских служащих, радистов, инструкторов по физическому воспитанию и новобранцев из Икеджи, имеющих за плечами всего несколько дней обучения. Дивизия немедленно двинулась на фронт, погрузив по возможности большее количество снаряжения на реквизированный транспорт. Недостаток подготовки и дисциплины в этом разношерстном соединении восполнялся энтузиазмом молодости.
Дивизия состояла из трех бригад под командованием майора Алани Акинринаде и подполковников Френсиса Айшиды и Годвина Алли. Тылом дивизии командовал я. Оперативный план предусматривал наступление на Бенин с двух сторон: на юге - через Оре, а на севере - через Западный штат южнее Окене.
Бенин был взят 22 сентября 1967г. Хотя на южном направлении наступление 11-й бригады со стороны Оре и было остановлено противником, взорвавшим мост через реку Овена, но после захвата Бенина остальными частями 2-й дивизии мятежники обратились в бегство.
Я немедленно собрал все оборудование по наведению мостов, которое было в Западном штате, и армейские саперы совместно с рабочими министерства общественных работ штата начали восстанавливать переправы через Овену. Когда мы строили самую длинную из них, какой-то беглец-мятежник выстрелил неподалеку от моста. Среди гражданских началась паника, и, несмотря на прочесывание близлежащего леса и усиление охраны, которая могла бы справиться с пробивавшимися к своим мятежниками, вернуть людей на строительство было почти невозможно.
После ликвидации мятежников, прятавшихся в Бенине, 2-я дивизия начала подготовку к наступлению на Асабу. Непосредственно перед штурмом Бенина к дивизии присоединился майор Огбемудиа, едва успевший спастись при нападении мятежников на Средний Запад. Его преданность и профессиональная компетентность были неоспоримы, и, несмотря на колебания Лагоса, полковник Муртала Мохаммед назначил его военным администратором штата; позже он был окончательно утвержден главнокомандующим на должность военного губернатора.
После взятия Бенина началось наступление на Восток. Теперь наши войска вынуждены были действовать в районах, населенных ибо, и враждебные акции против нас предпринимались не только мятежниками, но и гражданским населением. Продвижение продолжалось, хотя и более замедленными темпами. Упорное сопротивление было оказано в Оваши-Укву и Ибусе - на родине некоторых старших офицеров армии мятежников,- но самыми тяжелыми были бои за школу святого Патрика в Асабе. Эта оборонительная позиция была хорошо подготовлена противником - Асабу они хотели удержать любой ценой. 7-я и 6-я бригады в рукопашном бою захватили школу святого Патрика, являвшуюся, по сути дела, ключом к Асабе. Штаб дивизии в Умунеде руководил подготовкой 8-й бригады к форсированию Нигера. В это время произошел печальный случай: солдаты 8-й бригады, не поставив в известность старших офицеров, казнили около 50 гражданских лиц, заподозренных в шпионаже. Это случилось после того, как федеральные войска понесли тяжелые потери, подвергшись неожиданному нападению мятежников.
Под руководством своего командира, отличавшегося редким упорством, энергией и остротой мышления, хотя и негибкого тактика, 2-я дивизия добилась отличных результатов, очистив за 6 недель от мятежников Запад и Средний Запад. На протяжении всей этой операции в неибоговорящих районах Среднего Запада жители очень тепло приветствовали федеральные войска, собираясь толпами вдоль дороги и с криком "Единая Нигерия" поднимая в воздух кулак или указательный палец. Это очень поддерживало боевой дух солдат, которым приходилось вести упорные бои с противником. Учитывая то обстоятельство, что дивизия была сформирована наспех, результаты ее боевых действий можно назвать великолепными.
При проведении операций в ибоговорящих районах необходимо было изменить тактику, что дивизия, в ряде случаев с опозданием, и пыталась сделать. Примером этого может служить опыт 8-й бригады по форсированию Нигера. Еще до начала войны было совершенно очевидно, что подготовка и снаряжение нигерийской армии не позволяют проводить крупные операции по форсированию водной преграды. В начале 1967г. по распоряжению главнокомандующего я принимал участие в безуспешной попытке закупить в Европе специальное оборудование для этого. Не является военным секретом, что даже при идеальных условиях форсирование реки под огнем противника - очень сложное дело, а без необходимого снаряжения и при плохой подготовке солдат и офицеров это может стать и вовсе невозможным. Командир 2-й дивизии проявил решительность, инициативу и находчивость, собрав все паромы, действующие в стране, в район Асабы. Однако штаб армии и штаб главнокомандующего весьма обоснованно предложили перенести эту операцию в район Иды, где сопротивления оказано бы не было; наступающие части смогли бы двинуться на юг к Ониче по территории, занятой 1-й дивизией. Но полковник Муртала Мохаммед решил пойти на значительный, хотя и продуманный риск, который можно было бы охарактеризовать, как ненужное удальство. С другой стороны, если бы операция под Асабой удалась, что едва не произошло, она вошла бы в историю войны как одна из самых успешных. Но попытка закончилась неудачей, и Мохаммеду пришлось нести за это ответственность.
12 октября 1967г. под руководством самого командира дивизии первый отряд высадился на восточном берегу. Однако он не получил ожидаемой поддержки: паром, на котором находилась вторая группа штурмового отряда, сломался и мятежники усилили сопротивление. Будь первый отряд достаточно дисциплинирован и четко управляем, чтобы удержать плацдарм, который он захватил практически без боя, подкрепление все же удалось бы успешно перебросить с западного берега. Вместо этого солдаты ворвались в Оничу, и, пока они грабили все, что им попадалось под руку, мятежники перешли в контратаку. Все смешалось на восточном берегу: солдаты и офицеры поодиночке пытались спасти свою жизнь. Некоторые прыгали в реку, другие пробовали прорваться на север, к Иде, многие бежали на юг и попадали прямо в руки мятежников, но лишь единицы избежали смерти или плена. Среди них были капитан Эджига, переправившийся обратно в лодке-долбленке, и несколько человек, умеющих плавать.
Накануне я прибыл в дивизию с обычной инспекцией в сопровождении полковника Бисаллы и стал очевидцем этой трагедии. Рано утром мы приехали в штаб дивизии в Умунеде и разбудили командира дивизии, руководившего всю ночь высадкой. Не скрывая торжества, он рассказал нам об успехе операции и предложил убедиться в этом лично. Я беспокоился за сохранность переправы через Нигер и, оставив Бисаллу в штабе, поспешил к парому в Асабе. Настроение там было подавленное, и в воздухе чувствовалось приближение беды. Увидел я и сломанный паром, из-за которого не удалось перебросить подкрепление на тот берег. Вскоре на лодке приплыл капитан Эджига и с ним еще несколько раненых солдат. Он рассказал нам о происшедшем на той стороне, а я немедленно проинформировал об этом командира дивизии в Умунеде.
Солдаты 2-й дивизии были по большей части новобранцы, плохо обученные и малодисциплинированные. После провала первой высадки они были так напуганы, что вторая попытка форсирования Нигера под командованием капитана Басси Иньянга была обречена на неудачу с самого начала, а третья, во главе с Акинринаде, чуть не вылилась в бунт. Она привела также к открытому конфликту между Акинринаде и командиром дивизии, в результате чего подполковник был вынужден покинуть свою часть. Следует отметить, что многие офицеры, командовавшие войсками, захватившими плацдарм, имели очень слабую подготовку. Командирами батальонов они были назначены по необходимости. Так, например, майор Арему был офицером службы просвещения и не имел никакой военной подготовки. Но он хотел быть пехотным офицером, и его поставили командовать 82-м батальоном, бывшим в числе частей, форсировавших Нигер. Арему мятежники захватили в плен, подвергли пыткам, заставили выступить по Радио Биафры и затем расстреляли.
После трех неудач командир дивизии согласился прекратить дальнейшие рискованные и дорогостоящие попытки переправиться на восточный берег у Асабы и принял рекомендации штаба главнокомандующего. Это послужило уроком для всей нигерийской армии. Неудача отсрочила окончание войны на несколько месяцев. Муртала реорганизовал и доукомплектовал свою дивизию и в январе 1968г. форсировал Нигер у Иды. 23 марта 1968г. после кровопролитного боя ему удалось захватить Оничу.
Традиционная тактика наступления, основанная на движении войск и приданной им техники по дорогам плотным строем, дорого обошлась 2-й дивизии во время марша на Оничу: дивизионная транспортная колонна, груженная боеприпасами и снаряжением, в районе Абагана попала в засаду. Выпущенная из миномета мина попала прямо в цистерну с горючим, и вся колонна была уничтожена. Тем не менее захват Оничи укрепил военные позиции федералистов на Среднем Западе.
В период кризиса 1966г. я служил в Кадуне, откуда в январе 1967г. меня перевели в Лагос на должность начальника инженерных войск. Разброд в армии и уход из ее рядов ибоговорящих военнослужащих, вернувшихся на родину, весьма болезненно отозвался на инженерных войсках: более 50% солдат и офицеров, почти все высококвалифицированные специалисты, отправились домой. Основной задачей, стоявшей перед командованием сразу же после кризиса, было обучение личного состава на всех уровнях необходимым навыкам, чтобы заполнить брешь, вызванную уходом наших коллег-ибо. К началу войны мы справились с этой задачей: на учебу за границу посылалось столько солдат и офицеров, сколько было возможно, из квалифицированных студентов гражданских учебных заведений был произведен специальный набор в инженерные войска. Все эти меры дополняли расширенную и углубленную программу курсов при инженерном учебном отделении в Кадуне.
После создания новых штатов и образования Биафры, когда над страной нависла угроза гражданской войны, глава государства и главнокомандующий вооруженными силами генерал-майор Якубу Говон по совету группы офицеров, опасавшихся за положение дел на Западе, решил направить меня в Ибадан, чтобы возглавить 2-е оперативное соединение. Я принял командование от полковника О.Олутойе 3 июля 1967г. Перед отъездом из Лагоса я спросил главнокомандующего, имею ли я право, учитывая обстановку, провести коренную реорганизацию. Он приказал мне соблюдать осторожность. В то время 2-е оперативное соединение состояло практически из одного 3-го батальона, обученного и полностью снаряженного. Около дороги на Иво под командованием майора Ола Баджова началось формирование 11-го батальона, который не насчитывал и 700 человек личного состава. В батальоне имелось менее 100 исправных винтовок при 20 патронах на каждую, 1 пулемет, 1 миномет, не было ни одного орудия и всего 1 комплект обмундирования на человека. Батальон располагал также "лендровером" и 2 грузовиками.
Отношения между солдатами северного и западного происхождения были, мягко говоря, плохими, а между солдатами-северянами и гражданским населением Западного штата они были на грани открытого конфликта. Причиной этого было заносчивое и высокомерное поведение солдат северного происхождения и проводимая среди солдат и гражданского населения Западного штата агитация против "северных войск". Моей первой задачей было восстановление взаимного доверия как в солдатской среде, так и между солдатами и гражданскими. Я обнаружил, что, кроме традиционного объединения против чужаков на этнической основе, острой причиной конфликтов и взаимных подозрений явились различия в языке. "Северные войска", как их называли на Западе, опасались, что солдаты-йоруба "вонзят им нож в спину", объединившись с местным гражданским населением. А солдаты-йоруба, которых было гораздо меньше, предпочитали ночевать вне казарм, боясь за свою жизнь. Конечно, играли свою роль и измышления о "северном господстве", которым, несмотря на создание новых штатов, некоторые люди верят еще и сегодня. Действия некоторых офицеров не только не помогали исправить положение, но, наоборот, усугубляли его. Солдаты объединялись по этническому признаку в группы, командовать которыми можно было только на их родном языке. Если непосредственный командир не являлся его соплеменником, солдат предпочитал обращаться к офицеру, не имеющему отношения к части, в Лагосе или Кадуне, но принадлежащему к его этнической группе.
Я распорядился, чтобы средством общения в частях стал отныне официальный язык страны - английский. Всем солдатам было приказано ночевать в казармах, пресекались любые действия, наносящие ущерб гражданскому населению. Нарушители сурово наказывались. Не исключались и телесные наказания, оказавшиеся весьма действенными. Вспоминается история с одним сержантом 3-го батальона, который без разрешения поехал на армейском "лендровере" в Лагос, чтобы повидать своего "брата" генерал-майора Якубу Говона и доложить ему о положении дел в Ибадане через голову старших офицеров своей части и оперативного соединения. Сержант был из народности ангас. Об этом случае доложили мне. Я распорядился, чтобы сержанту было официально предъявлено обвинение в нарушении воинской дисциплины и в использовании государственного транспорта в самовольной поездке. Его часть передала дело мне на рассмотрение.
Сержанта привели ко мне, и после предъявления обвинения он признал себя виновным. Тогда я связался по телефону с главой государства, чтобы информировать его о поступке сержанта и о том, что он сам косвенно поощряет подобные выходки.
Якубу Говон выразил сожаление по этому поводу. Сержант был сурово наказан в соответствии с законами военного времени. Это положило конец таким случаям. В течение короткого времени среди солдат было восстановлено взаимное доверие и дисциплина, а между солдатами и гражданскими зародилось взаимопонимание.
6 июля 1967г., ровно через 3 дня после того, как я вступил в должность и только начал осваиваться, война докатилась до границ Бенуэ-Плато и Восточно-Центрального штатов. Через 2 недели 3-й батальон был направлен из Ибадана в Нсукку на помощь боевым частям. Все усилия отменить приказ о перемещении батальона из Ибадана, что открывало путь мятежникам на Запад и Лагос, были безуспешными, его присутствие в Нсукке считалось более важным. 2-е оперативное соединение в Ибадане имело в тот момент всего 700 с небольшим неопытных, плохо вооруженных и снаряженных людей в 11-м батальоне майора Баджовы. Действия же 3-го батальона, когда он был брошен в бой в составе 1-й бригады в районе Нсукки, оставляли желать много лучшего. Причины были очевидны. Батальон по этническому составу был довольно пестрым, в него входили и северяне и йоруба. Взаимное недоверие, о котором говорилось ранее, испортило отношения в войсках. Офицеры не проявляли ни преданности делу, ни умелого руководства. Западный штат тогда еще относился к войне безразлично, и это, естественно, сказывалось на боевом духе солдат с Запада: оказавшись на фронте, некоторые их них дезертировали, бросив своих товарищей.
В силу этнического состава и географического положения Среднезападного штата симпатии к противоборствующим сторонам распределились там примерно поровну. Администрация подполковника Эджура, стремясь сохранить нейтралитет, придерживалась среднего курса между Нигерией и Биафрой, но проницательные наблюдатели сомневались, что такое положение удастся сохранить надолго. Федеральное правительство в дела штата не вмешивалось.
У Оджукву со Средним Западом были связаны определенные планы. Еще будучи младшим офицером, он вынашивал честолюбивые политические замыслы. Возможность их осуществления появилась после январского переворота, с его назначением военным губернатором Восточного региона. Немедленно после переворота он стал одним из тех, кто определял взаимоотношения между Лагосом и Кадуной. Оджукву рассматривал свою должность как стартовую площадку для того, чтобы любыми средствами пробиться на национальную политическую орбиту. Июльский переворот, как могло показаться, передвинул чашу весов в пользу Оджукву. Из опыта личного общения с ним, когда мы были младшими офицерами в Кадуне, я знал, что ему были свойственны политическая чуткость и тонкое понимание обстановки. Нет сомнений в том, что Оджукву считал успешное неожиданное вторжение на Средний Запад с последующим наступлением на Запад и Лагос основной операцией на первом этапе осуществления своего амбиционного плана захвата власти в стране.
План вторжения на Средний Запад подготавливался тайно, под личным руководством Оджукву. Краткий рассказ Фредерика Форсита о его разработке и проведении в жизнь дает общее представление о вторжении войск Биафры на территорию Среднего Запада: "На рассвете тайно подготовленная мобильная бригада из 3тыс. человек ворвалась через мост в Ониче на Средний Запад. Через 10 часов штат пал. Были захвачены города Варри, Сапеле, нефтяной центр в Угели, Агбор, Уроми, Убиаджа и Бенин. О небольшой армии Среднего Запада ничего слышно не было: 9 из 11 ее старших офицеров были ика-ибо, очень близкие по крови к ибо Биафры, и, вместо того чтобы сражаться, они приветствовали войска мятежников" [Forsyth F. Biafra Story. London, 1969, p.116].
Оджукву воспользовался недостатком боеспособных частей на Западе и положением на Среднем Западе, где ибоговорящие офицеры составляли абсолютное большинство, чтобы захватить в свои руки власть в Среднезападном штате без сколько-нибудь серьезных жертв.
При содействии подполковника Виктора Банджо, офицера-йоруба, заподозренного в причастности к подготовке первого переворота и задерживаемого с тех пор в Энугу, Оджукву разработал и осуществил свое вторжение на Средний Запад силами бригады из трех батальонов. Развивая наступление на западном, южном и центральном направлениях, эти батальоны должны были взять Лагос в клещи. Учитывая полную поддержку со стороны Среднего Запада, возможность появления большого количества квислингов на Западе и, наконец, то обстоятельство, что операцией руководил подполковник Виктор Банджо, этот план нельзя было назвать безрассудным или невыполнимым. Уверенность Оджукву в успехе показывает фраза, брошенная им в 2 часа ночи 9 августа 1967г.: "Мои войска сейчас, должно быть, уже подходят к Лагосу". Как бы то ни было, кроме удовлетворения непомерного честолюбия, этот шаг был необходим Оджукву для поднятия боевого духа своих войск, упавшего после сдачи Нсукки и нефтяного порта Бонни. Операция также должна была произвести соответствующее впечатление на его заграничных союзников и показать им, что он способен подкреплять слова делом. Но важнее всего было ослабить растущее давление на Энугу и Порт-Харкорт и захватить в Среднезападном штате военное снаряжение, чтобы снабдить им войска, защищающие эти два города. Поставленные задачи были в целом решены молниеносными действиями Оджукву на Среднем Западе, хотя конечной цели - захвата Лагоса и Ибадана - достичь не удалось. В то же время он оттолкнул от себя неибовское население Среднего Запада и Йоруба Запада и Лагоса.
Как только утром 9 августа 1967г. я узнал о событиях на Среднем Западе, я принял меры по укреплению заградительных постов в Оре, Офон, Ируа, Собе, Игбатаро, Иреле и Окитипупа, чтобы воспрепятствовать свободному проникновению сепаратистов в Западный штат. Это сорвало первые попытки мятежников прорваться к Лагосу и Ибадану.
Незадолго до этого меня пытались подкупом заставить открыть путь войскам Оджукву на Запад. Так, от лица Виктора Банджо со мной вел переговоры один известный драматург. В ночь нападения мятежников на Средний Запад в моей спальне вскоре после полуночи зазвонил телефон (впервые после того, как я вселился в этот дом). Уверенный голос сказал, что он имеет для меня сообщение и вскоре перезвонит. Через 2 часа тот же неизвестный человек снова позвонил мне и передал от имени Виктора Банджо, чтобы я "не волновался", не объясняя, что происходит. К утру стало известно, что мятежники начали вторжение. Через некоторое время я доложил главе государства о ночном происшествии. Он серьезно предостерег меня относительно некоторых деятелей Западного штата, тайно сочувствующих мятежникам.
Во второй половине дня опять раздался звонок. Все это стало меня раздражать. Я попросил неизвестного о встрече в 8 часов вечера, избрав ее местом бензоколонку у перекрестка дорог на Ибаданский политехнический институт и Оре. Мой собеседник прибыл на место вовремя. Я пригласил его к себе в машину, и мы в течение почти 2 часов ездили по городу и обсуждали сделанное мне Банджо предложение открыть ему дорогу на Ибадан и Лагос в обмен на любое мое требование. Я отказался. Позже выяснилось, что мой собеседник и тот, кто привез его к месту встречи, прозвали меня за это "Я выполняю свой долг". К своему удивлению, я потом узнал, что мы оба просили своих друзей вести за нами наблюдение во время этой встречи. Фредерик Форсит в книге "История Биафры" утверждает, что "Банджо передал вождю Аволово послание" [Ibid, р.118], по-видимому, через того же посредника, содержащее предложение ликвидировать Оджукву и сместить Говона.
В то время я был серьезно обеспокоен тем обстоятельством, что в Восточном регионе находилось большое количество офицеров западного происхождения, оказавшихся там вследствие их подлинного или мнимого участия в первом перевороте. Много было и таких, кто попал в плен к мятежникам. Вообще на стороне Биафры сражалось офицеров с Запада больше, чем было у меня в Ибадане. Мятежники, готовясь к наступлению, получили детальную информацию о силе и дислокации наших войск через завербованных ибо - лесорубов и сборщиков какао-бобов, живущих в районе Оре. Нападение удалось бы полностью, не перенеси мы своевременно наши позиции и не замаскируй их. По чистой случайности миномет мятежников вывел из строя наш единственный 81-мм миномет и рацию. Несмотря на это, мы застали противника врасплох, когда он напоролся на наши позиции на 15км ближе, чем предполагал. Наши молодые и необстрелянные солдаты проявили незаурядную выдержку и, только когда передовой взвод мятежников и "красный дьявол" подошли совсем близко, открыли огонь в упор. Стрелковым оружием никак не удавалось вывести из строя самодельный танк, тогда мы облили его бензином и подожгли. После кровопролитного и яростного боя, длившегося всю ночь, мятежники отошли, бросив обугленный "красный дьявол" с 5 сгоревшими членами экипажа. Наши потери составили 3 убитых и 5 раненых. Войска прошли крещение огнем и сорвали первую попытку врага пробиться в Лагосу и Ибадану. Даже самодельный танк со стальной броней в четверть дюйма толщиной не испугал их. К полудню 12 августа наши части отошли на 25км к карьеру у Оту, поскольку у них кончились боеприпасы и прервалась связь со штабом.
Весьма важно отметить, что 11 августа в доме католического священника отца Руни в Бенине произошла секретная встреча между Виктором Банджо и подполковником Эджуром, который здесь скрывался. Банджо, прибывший в сопровождении подполковника Нваджеи и еще одного офицера, проинформировал Эджура о своих целях и предложил смещенному губернатору присоединиться к нему. Привлечь Эджура на свою сторону не удалось, он решительно отказался от предложенного ему поста в "правительстве" Банджо на Среднем Западе и в Лагосе. Хотя Банджо был разочарован позицией Эджура, это не поколебало его уверенности в том, что еще этой ночью ему самому удастся войти в Лагос. На самом деле получилось по-другому.
Мятежники понесли большие потери, но и мы нуждались в пополнении. Новые солдаты, по большей части северного происхождения, не могли понять, почему они должны покидать Лагос, чтобы защитить Запад, где активно велась пропаганда против "северных войск". Тем не менее капитану Эджиге удалось в достаточной степени контролировать положение в своем батальоне. Мятежники продолжали наступление и добились некоторых успехов. Фредерик Форсит утверждает, что 20 августа "Говон приказал подготовить свой личный самолет для бегства на Север, в Зарию" [Ibid, р.117], и что только британское и американское вмешательство предотвратило выполнение этого плана. Если бы такой план действительно существовал и если бы о нем стало известно, это оказало бы деморализующее воздействие как на федеральные войска, так и на гражданское население, а его осуществление означало бы конец единой Нигерии.
Мятежники были задержаны, по крайней мере временно, у Оре, и наступление на Ибадан и Лагос было остановлено. Передышка позволила федералистам в спешном порядке сформировать 2-ю дивизию под командованием полковника Мурталы Мохаммеда. Она дожна была очистить от мятежников отдельные районы Запада и большую часть Среднего Запада. Это был решающий поворот в гражданской войне. Оджукву допустил весьма серьезную ошибку, сместив нейтральное, если не сочувствующее ему, правительство Среднезападного штата и осуществив вторжение на Запад. Продолжением этой ошибочной политики были воздушные налеты на Лагос и попытки с помощью диверсантов взорвать ряд важных сооружений в столице. Неибовское население Среднего Запада, а также йоруба наконец полностью осознали опасность "ибовского господства", угнетения и несправедливости, которые бы стали их уделом в случае победы мятежников. Война безжалостно вошла в дома народов Среднего Запада и была совсем близко от йоруба Запада и Лагоса. Это заставило их сплотиться вокруг федерального военного правительства и поддержать его усилия по разгрому мятежа. Многие молодые люди из этих районов вступали в ряды армии.
С этого момента все народности страны оказались вовлеченными в гражданскую войну, которую многие ранее представляли себе как войну между хауса Севера и ибо Востока. Лозунг "Единая Нигерия" стал весьма популярным, начались добровольные пожертвования и деньгами и натурой в фонд армии. Оджукву утратил всякую поддержку йоруба на Среднем Западе и окончательно разоблачил себя перед народом как жестокий и себялюбивый человек, стремящийся только к личной власти.
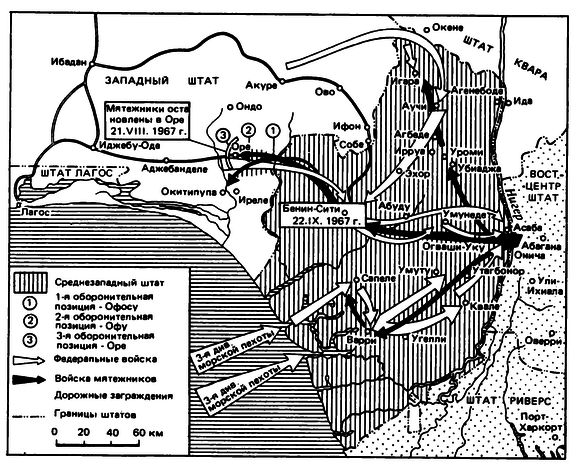
ГЛАВА IV. ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ ЗАПАДЕ
Вторжение мятежников на Средний Запад подтвердило правоту офицеров нигерийской армии и федеральных чиновников, выступавших против сложившегося положения, при котором федеральное правительство должно было финансировать и снабжать воинские части Среднего Запада, но не могло осуществлять оперативное руководство ими. Сбылись худшие предсказания: федералистам был нанесен удар в спину. В армейских кругах Лагоса все происходящее считали предательством и верхом нелояльности со стороны старших офицеров Среднего Запада. Часто цитируемое заявление подполковника Д.Эджура о том, что он не позволит превратить свой штат в поле боя, утратило всякий смысл; к этому времени война уже разоряла его штат, а сам он стал беглецом и беспомощным наблюдателем.
В Лагосе была наспех сформирована 2-я дивизия. Она состояла по большей части из конторских служащих, радистов, инструкторов по физическому воспитанию и новобранцев из Икеджи, имеющих за плечами всего несколько дней обучения. Дивизия немедленно двинулась на фронт, погрузив по возможности большее количество снаряжения на реквизированный транспорт. Недостаток подготовки и дисциплины в этом разношерстном соединении восполнялся энтузиазмом молодости.
Дивизия состояла из трех бригад под командованием майора Алани Акинринаде и подполковников Френсиса Айшиды и Годвина Алли. Тылом дивизии командовал я. Оперативный план предусматривал наступление на Бенин с двух сторон: на юге - через Оре, а на севере - через Западный штат южнее Окене.
Бенин был взят 22 сентября 1967г. Хотя на южном направлении наступление 11-й бригады со стороны Оре и было остановлено противником, взорвавшим мост через реку Овена, но после захвата Бенина остальными частями 2-й дивизии мятежники обратились в бегство.
Я немедленно собрал все оборудование по наведению мостов, которое было в Западном штате, и армейские саперы совместно с рабочими министерства общественных работ штата начали восстанавливать переправы через Овену. Когда мы строили самую длинную из них, какой-то беглец-мятежник выстрелил неподалеку от моста. Среди гражданских началась паника, и, несмотря на прочесывание близлежащего леса и усиление охраны, которая могла бы справиться с пробивавшимися к своим мятежниками, вернуть людей на строительство было почти невозможно.
После ликвидации мятежников, прятавшихся в Бенине, 2-я дивизия начала подготовку к наступлению на Асабу. Непосредственно перед штурмом Бенина к дивизии присоединился майор Огбемудиа, едва успевший спастись при нападении мятежников на Средний Запад. Его преданность и профессиональная компетентность были неоспоримы, и, несмотря на колебания Лагоса, полковник Муртала Мохаммед назначил его военным администратором штата; позже он был окончательно утвержден главнокомандующим на должность военного губернатора.
После взятия Бенина началось наступление на Восток. Теперь наши войска вынуждены были действовать в районах, населенных ибо, и враждебные акции против нас предпринимались не только мятежниками, но и гражданским населением. Продвижение продолжалось, хотя и более замедленными темпами. Упорное сопротивление было оказано в Оваши-Укву и Ибусе - на родине некоторых старших офицеров армии мятежников,- но самыми тяжелыми были бои за школу святого Патрика в Асабе. Эта оборонительная позиция была хорошо подготовлена противником - Асабу они хотели удержать любой ценой. 7-я и 6-я бригады в рукопашном бою захватили школу святого Патрика, являвшуюся, по сути дела, ключом к Асабе. Штаб дивизии в Умунеде руководил подготовкой 8-й бригады к форсированию Нигера. В это время произошел печальный случай: солдаты 8-й бригады, не поставив в известность старших офицеров, казнили около 50 гражданских лиц, заподозренных в шпионаже. Это случилось после того, как федеральные войска понесли тяжелые потери, подвергшись неожиданному нападению мятежников.
Под руководством своего командира, отличавшегося редким упорством, энергией и остротой мышления, хотя и негибкого тактика, 2-я дивизия добилась отличных результатов, очистив за 6 недель от мятежников Запад и Средний Запад. На протяжении всей этой операции в неибоговорящих районах Среднего Запада жители очень тепло приветствовали федеральные войска, собираясь толпами вдоль дороги и с криком "Единая Нигерия" поднимая в воздух кулак или указательный палец. Это очень поддерживало боевой дух солдат, которым приходилось вести упорные бои с противником. Учитывая то обстоятельство, что дивизия была сформирована наспех, результаты ее боевых действий можно назвать великолепными.
При проведении операций в ибоговорящих районах необходимо было изменить тактику, что дивизия, в ряде случаев с опозданием, и пыталась сделать. Примером этого может служить опыт 8-й бригады по форсированию Нигера. Еще до начала войны было совершенно очевидно, что подготовка и снаряжение нигерийской армии не позволяют проводить крупные операции по форсированию водной преграды. В начале 1967г. по распоряжению главнокомандующего я принимал участие в безуспешной попытке закупить в Европе специальное оборудование для этого. Не является военным секретом, что даже при идеальных условиях форсирование реки под огнем противника - очень сложное дело, а без необходимого снаряжения и при плохой подготовке солдат и офицеров это может стать и вовсе невозможным. Командир 2-й дивизии проявил решительность, инициативу и находчивость, собрав все паромы, действующие в стране, в район Асабы. Однако штаб армии и штаб главнокомандующего весьма обоснованно предложили перенести эту операцию в район Иды, где сопротивления оказано бы не было; наступающие части смогли бы двинуться на юг к Ониче по территории, занятой 1-й дивизией. Но полковник Муртала Мохаммед решил пойти на значительный, хотя и продуманный риск, который можно было бы охарактеризовать, как ненужное удальство. С другой стороны, если бы операция под Асабой удалась, что едва не произошло, она вошла бы в историю войны как одна из самых успешных. Но попытка закончилась неудачей, и Мохаммеду пришлось нести за это ответственность.
12 октября 1967г. под руководством самого командира дивизии первый отряд высадился на восточном берегу. Однако он не получил ожидаемой поддержки: паром, на котором находилась вторая группа штурмового отряда, сломался и мятежники усилили сопротивление. Будь первый отряд достаточно дисциплинирован и четко управляем, чтобы удержать плацдарм, который он захватил практически без боя, подкрепление все же удалось бы успешно перебросить с западного берега. Вместо этого солдаты ворвались в Оничу, и, пока они грабили все, что им попадалось под руку, мятежники перешли в контратаку. Все смешалось на восточном берегу: солдаты и офицеры поодиночке пытались спасти свою жизнь. Некоторые прыгали в реку, другие пробовали прорваться на север, к Иде, многие бежали на юг и попадали прямо в руки мятежников, но лишь единицы избежали смерти или плена. Среди них были капитан Эджига, переправившийся обратно в лодке-долбленке, и несколько человек, умеющих плавать.
Накануне я прибыл в дивизию с обычной инспекцией в сопровождении полковника Бисаллы и стал очевидцем этой трагедии. Рано утром мы приехали в штаб дивизии в Умунеде и разбудили командира дивизии, руководившего всю ночь высадкой. Не скрывая торжества, он рассказал нам об успехе операции и предложил убедиться в этом лично. Я беспокоился за сохранность переправы через Нигер и, оставив Бисаллу в штабе, поспешил к парому в Асабе. Настроение там было подавленное, и в воздухе чувствовалось приближение беды. Увидел я и сломанный паром, из-за которого не удалось перебросить подкрепление на тот берег. Вскоре на лодке приплыл капитан Эджига и с ним еще несколько раненых солдат. Он рассказал нам о происшедшем на той стороне, а я немедленно проинформировал об этом командира дивизии в Умунеде.
Солдаты 2-й дивизии были по большей части новобранцы, плохо обученные и малодисциплинированные. После провала первой высадки они были так напуганы, что вторая попытка форсирования Нигера под командованием капитана Басси Иньянга была обречена на неудачу с самого начала, а третья, во главе с Акинринаде, чуть не вылилась в бунт. Она привела также к открытому конфликту между Акинринаде и командиром дивизии, в результате чего подполковник был вынужден покинуть свою часть. Следует отметить, что многие офицеры, командовавшие войсками, захватившими плацдарм, имели очень слабую подготовку. Командирами батальонов они были назначены по необходимости. Так, например, майор Арему был офицером службы просвещения и не имел никакой военной подготовки. Но он хотел быть пехотным офицером, и его поставили командовать 82-м батальоном, бывшим в числе частей, форсировавших Нигер. Арему мятежники захватили в плен, подвергли пыткам, заставили выступить по Радио Биафры и затем расстреляли.
После трех неудач командир дивизии согласился прекратить дальнейшие рискованные и дорогостоящие попытки переправиться на восточный берег у Асабы и принял рекомендации штаба главнокомандующего. Это послужило уроком для всей нигерийской армии. Неудача отсрочила окончание войны на несколько месяцев. Муртала реорганизовал и доукомплектовал свою дивизию и в январе 1968г. форсировал Нигер у Иды. 23 марта 1968г. после кровопролитного боя ему удалось захватить Оничу.
Традиционная тактика наступления, основанная на движении войск и приданной им техники по дорогам плотным строем, дорого обошлась 2-й дивизии во время марша на Оничу: дивизионная транспортная колонна, груженная боеприпасами и снаряжением, в районе Абагана попала в засаду. Выпущенная из миномета мина попала прямо в цистерну с горючим, и вся колонна была уничтожена. Тем не менее захват Оничи укрепил военные позиции федералистов на Среднем Западе.
Последний раз редактировалось: Gudleifr (Чт Апр 18, 2024 1:46 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА V. ОПЕРАЦИИ НА ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Ранее я упоминал, что проникновение мятежников на Средний Запад вынудило нигерийскую армию вести боевые действия на трех фронтах, к чему она была плохо подготовлена. Первоначально планировалось, уважая нейтралитет правительства Среднего Запада, сохранить этот штат в качестве буферной зоны и атаковать мятежников на северном и южном направлениях. Наступление на юге возглавлял полковник Бенджамин Адекунле, бывший в начале войны командиром лагосского гарнизона. Три батальона, входившие в это соединение, и приняли участие в операции по захвату острова Бонни - морском десанте, осуществленном при поддержке нигерийского флота.
Вечером 26 июля 1967г. после жестокого и кровопролитного боя, длившегося весь день на суше и на море, 6-й, 7-й и 8-й батальоны, опираясь на захваченные плацдармы, полностью очистили Бонни от мятежников. Захват Бонни, его нефтяных установок и сооружений, еще более обострил положение на фронте "нефтяной политики", прямо или косвенно связанной с нигерийской гражданской войной на протяжении всех 30 месяцев боевых действий. Через 2 дня после падения Бонни Оджукву арестовал управляющего "Шелл-БП", желая взыскать с компании арендную плату за право разработки недр в пользу Биафры. Держали его под арестом месяц, но "Шелл-БП" утверждает, что денег Биафра так и не получила. Для французов, ассигновавших на помощь Биафре значительные суммы именно из-за ее нефти, потеря Бонни была довольно неприятным сюрпризом. Они немедленно выполнили свое обещание и предоставили Биафре наемников.
После вторжения мятежников на Средний Запад полковнику Адекунле, руководившему операцией по захвату Бонни, было приказано, оставив на острове один батальон, чтобы препятствовать любым вражеским действиям, с двумя оставшимися батальонами двигаться в район Эскравоса. Ему было поручено опрокинуть мятежников и очистить от них речные районы Среднего Запада. Адекунле, все силы которого оказались распылены, прибыл в Лагос и изложил свои проблемы штабу главнокомандующего. Подкреплениями из Кадуны, Зарии, Лагоса и Эскравоса численность вверенных ему формирований, которые были переименованы в 3-ю пехотную дивизию, довели до уровня бригады.
Операции 3-й дивизии на Среднем Западе начались в сентябре 1969г. силами трех батальонов, очистивших от мятежников район реки Варри, порты Коко и Янгтаун и окончивших наступление захватом Сапеле и Варри. Освобождение реки, пролива и порта Варри вновь открыли эти районы для торговли с остальной частью страны. Восстановление федеральной власти в порту, через который проходила международная торговля, укрепило военный и политический престиж федералистов и в стране, и за рубежом. В большинстве перечисленных пунктов, кроме порта Коко и Сапеле, серьезного сопротивления нашим войскам оказано не было. На этой стадии наступления взаимосвязь отдельных частей не была особенно тесной, и каждый батальон действовал более или менее независимо. Командование тремя батальонами было сосредоточено в руках майора Очефу, который лично возглавил военные действия в Варри. Очефу отмечал значительный вклад в борьбу со стороны местного населения, которое преследовало мятежников, вооружившись чем попало. Тем временем полковник Адекунле был занят разработкой оперативных планов и планов будущих операций. Он был доволен тем, как развивались события, хотя ему и хотелось, чтобы вверенное ему соединение называлось 2-й дивизией, а не 3-й, так как оно вступило в войну вторым по порядку. В последующих операциях на Среднем Западе были учтены уроки этого наступления, в значительной части основанного на высадках морского десанта и зависевшего поэтому от высоты волн прибоя, недостатка транспортных средств и необходимости использования наемных судов.
К концу сентября значительная часть Среднего Запада была очищена от мятежников, и встал вопрос, что же делать дальше. Полковник Адекунле еще раз посетил Лагос и добился разрешения именовать свою дивизию не 3-й пехотной, а 3-й дивизией морской пехоты из-за десантного характера операций, уже проведенных на среднем Западе и в штате Риверс и предстоящих в Юго-Восточном штате. Из Варри 3-я дивизия была переброшена на Бонни, где в октябре 1967г. развернулась подготовка операции "Тигриный коготь" - высадки с моря в Калабаре. Детальная разработка этой операции была поручена майору Филипу Афиегбе.
Полковник Адекунле предполагал взять Калабар без особого труда. Против 9-го батальона мятежников, оборонявшего побережье в районах Калабара и Орона, должно было действовать шесть батальонов по 500 человек в каждом. Десант поддерживался с моря флотилией под командованием капитана Соро. Правда, большая часть солдат были необстрелянными, за исключением 8-го батальона майора Тони Очефу и 33-го батальона майора Теда Хаммана, которые считались опытными боевыми частями. Они и должны были возглавить наступление на Калабар.
Корабль ВМФ "Локоджа", имея на борту 8-й батальон, вошел в устье реки Калабар утром 18 октября с опозданием на несколько часов. Хотя наши корабли и подвергли побережье сильному обстрелу, высадка 8-го батальона около мола цементного завода была встречена ружейным огнем моряков-мятежников. Через час завод был захвачен. После успешной высадки 8-го батальона, "Локоджа" вернулась за 33-м и 35-м батальонами, высадившимися на городском пляже Хеншоу. Утром следующего дня к ним присоединился и 37-й батальон майора Абубакара. Полковник Адекунле, сошедший на берег с передовыми частями, лично возглавил наступление трех батальонов из южных кварталов Калабара на засевших в городе мятежников с целью прижать их к позициям 8-го батальона и уничтожить. Эта тактика охвата оказалась настолько успешной, что в дивизии ей стали пользоваться постоянно. Появление наших солдат в Калабаре было восторженно встречено населением, и федеральным войскам было предложено всяческое содействие. В январе 1968г. дивизия захватила каучуковые плантации фирмы "Данлоп" к северу от Калабара. Победа федералистов под Калабаром показала французам, воюющим на стороне Оджукву, что и с их помощью Биафре не победить.
Почти одновременно взяв Энугу и Калабар, силы федерального правительства обеспечили себе господствующее положение в прибрежных водах Нигерии. Биафра была отрезана от моря. Аэропорт Порт-Харкорта остался единственным средством ее сообщения с внешним миром. Это заставило лидеров Биафры искать дополнительные позможности, и три участка шоссейной дороги, Авгу, Уга и Ули, были переоборудованы во взлетно-посадочные полосы. За границей знали о ходе войны и об успехах федералистов на всех фронтах. Чтобы добиться иностранной экономической, политической и военной помощи, Биафра и ее друзья стали еще громче кричать о геноциде и еще чаще демонстрировать в других странах фотографии голодающих детей.
Развитие операции "Тигриный коготь" ослабило гарнизон Бонни, значительно пополнивший наступающую 3-ю дивизию. Перед лицом весьма серьезной опасности, угрожающей острову, было принято решение выделить его в автономную зону с непосредственным подчинением Лагосу. К тому времени защитники Бонни понесли тяжелые потери. Их командир лейтенант Белло был тяжело ранен и эвакуирован в столицу. Через неделю то же самое случилось с его преемником лейтенантом Адедайо. Мятежники, терпевшие неудачи на Севере и на Среднем Западе, решили нанести эффектный удар, захватив Бонни. Это значительно подняло бы дух их армии и укрепило престиж сепаратистов за границей, особенно в глазах тех, кому они обещали нефть трех восточных штатов в обмен на валюту, военную поддержку и снаряжение. Чтобы выбить федералистов с острова, мятежники переправили на Бонни 4 самодельные бронемашины. Стрелковое вооружение и минометы защитников Бонни были не в силах справиться с "красными дьяволами". С воздуха наши силы постоянно подвергались нападению Б-26 мятежников и несли тяжелые потери. Сепаратистам удалось также поджечь нефтяные цистерны на складе. Федералисты были буквально прижаты к морю, и к рождеству 1967г. расстояние между ними и мятежниками составляло менее 100м. Положение на Бонни стало предметом пристального внимания Лагоса. Командиром наших частей на острове, получивших наименование 15-й бригады, был назначен Акинринаде. Новый командир вместо лобовых атак стал применять тактику захода мятежникам в тыл, и это принесло успех. Противник, понеся тяжелые потери в личном составе и снаряжении, в начале 1968г. был выбит с острова окончательно.
В конце января 1968г. было принято решение о проведении крупной операции. Согласно плану, в общем наступлении на Икот-Экпене и Порт-Харкорт должна была принять участие вся 3-я дивизия. Через 3 дня после взятия Обубры полковник Адекунле приказал начать наступление на Порт-Харкорт, которое он готовил в течение 6 недель. Все силы Биафры в районах Уйо и Аннанг в то время состояли из двух батальонов под командованием полковника Ифеаньи Аниебо, спешно доукомплектованных до уровня бригады. Введя в Уйо батальон гражданской милиции, мятежники пытались восстановить уверенность в колеблющемся гражданском населении и в слабеющих духом солдатах. Но это не могло помешать развитию операции федералистов. Наши силы, при поддержке ВВС и ВМФ высадившись в порту Орон и Иту, соединились в Уйо, отрезав большой отряд мятежников. Вскоре окруженные сдались. Над Икот-Экпене нависла такая же угроза, и почти все мятежники оставили его, укрывшись в буше.
Из Орона 16-я и 17-я бригады с некоторыми свежими частями постепенно подошли к Экету. Решающую роль в действиях дивизии сыграли Айзек Боро и его парни из "морской школы Риверса". Знание ими речных районов и местных наречий, неприхотливость и умение приспосабливаться к самым суровым условиям, их стремительные, хотя и не совсем тактически зрелые атаки, принесли значительный успех. Пока 16-я и 17-я бригады, захватив Опобо, готовились к наступлению на Порт-Харкорт, 15-я бригада предприняла довольно плохо подготовленную попытку атаковать его с моря и потерпела неудачу.
В апреле 1968г. с опозданием на 2 недели началось наступление на Порт-Харкорт. 17-я бригада подполковника Шанде успешно продвигалась вперед в течение трех недель через Обетте к Обигбо. Ни у нас, ни у противника не было бронемашин или артиллерии, а у бригады еще недоставало транспорта. Шанде применил довольно хитрый прием. Сначала он занимал стратегический район, затем выставлял на передовых позициях заградительный отряд, а основные силы начинали ликвидацию опорных пунктов противника местного значения, которые во время наступления обходились. Заградительный отряд на переднем крае не выдерживал контратак противника, и, когда он отходил, войска Биафры, полагавшие, что им удалось вернуть инициативу, оказывались окруженными. Этот тактический прием с успехом использовался на протяжении всей операции в районе Порт-Харкорта. В одном из таких боев погиб итальянский офицер-наемник. Джорджио Норбиатто, возглавлявший "коммандос" мятежников. 17-я бригада захватила Афам и электростанцию. Прекращение подачи электроэнергии в районы, занятые мятежниками, "притушило" свет надежды над Биафрой.
Успешное наступление федералистов резко ухудшило настроение в Порт-Харкорте и новом штабе мятежников в Умуахии. Джо Ачузиа, имевший огромный авторитет после упорной обороны им Оничи и удачной засады на колонну 2-й дивизии в Абагане, был направлен в Порт-Харкорт. В Окрике мятежником-дезертиром случайно был убит майор Айзек Боро. Его смерть почти немедленно привела к распаду 19-й бригады, которая без него не поддавалась никакому контролю. 19 мая 1968г. войска 3-й дивизии вошли в Порт-Харкорт. После захвата Бонни, Энугу и Калабара эта операция показала всему миру, что инициативой владеет федеральное правительство. Наемники, бежавшие из Биафры, рассказывали о победах федеральных войск. Это опять вызвало вспышку дипломатической активности друзей Биафры с целью продлить ее существование. Примерно в это время Танзания стала первой страной, официально признавшей Биафру.
Хотя войска устали, захват Порт-Харкорта очень сильно поднял престиж и репутацию дивизии и ее командира. Учитывая это, полковник Адекунле стал рассматривать войну не только как средство подавления мятежа, но и как возможность создать себе солидный политический капитал для получения высокого государственного поста. Я знал ряд уроженцев Западного штата, которые считали себя ущемленными в политическом отношении и которые рассматривали полковника Адекунле как своего спасителя. Они говорили ему об этом, и он им верил. Следующим шагом полковника Адекунле был грандиозный план, который он окрестил "операция ОАУ" - одновременный захват Оверри, Абы и Умуахии.
4 сентября 1968г. 17-я бригада захватила торговый центр Аба. 16 сентября 16-я бригада вошла в Оверри, служивший административной столицей Биафры. Отчаянное сопротивление в этих операциях оказывали "коммандос" мятежников во главе с наемником Штайнером. Но успех в районе Оверри и Абы был более чем воодушевляющим, и федералистам начало казаться, что 1968г. будет последним годом гражданской войны. Однако командира дивизии беспокоило, что Умуахию взять не удалось и надежды на это почти не было.
Необходимо отметить, что самым большим препятствием на пути завершения войны и причиной неудач федеральных сил в начале 1969г. было возобновление в конце 1968г. французской помощи Биафре. Французы поставляли мятежникам военное снаряжение, наемников и прилагали немалые усилия по обеспечению дипломатического признания Биафры. Эта поддержка усилила сопротивление мятежников и сделала возможным мощное контрнаступление их сил на Оверри и Абу на рождество 1968г. Контрнаступление выдохлось, не принеся результатов, но началась более решительная атака на Оверри 14-й дивизией армии Биафры при поддержке "коммандос", ядро которой составляли наемники. В марте 1969г. мятежникам удалось окружить в Оверри нашу 16-ю бригаду. Положение стало таким серьезным, что в течение 6 недель штаб армии был вынужден снабжать окруженные войска по воздушному мосту. Большая часть грузов сбрасывалась над бушем и либо пропадала, либо становилась добычей мятежников. Ночью 22 апреля 1969г. наша бригада отступила из Оверри по дороге, о существовании которой мятежники не знали. Это был удачный тактический отход, который, однако, мог обернуться паническим бегством, если бы не мужество, дисциплина и опыт солдат и офицеров. Осада, отступление и понесенные в результате потери развеяли миф о непобедимости дивизии, углубили разочарование и довели морально-боевой настрой личного состава до самого низкого уровня. В то же время боевой дух мятежников укреплялся. Чтобы остановить опасное развитие событий на фронте, которое могло привести к военной и политической катастрофе, нужны были решительные перемены.
ГЛАВА VI. СМЕНА КОМАНДОВАНИЯ
К концу апреля 1969г., после почти двух лет братоубийственной, кровопролитной войны, стало очевидно, что федеральной стороне еще далеко до победы. Мятежникам удалось добиться по меньшей мере равновесия сил. Самый большой оптимист не поверил бы, если бы ему сказали тогда, насколько быстро и чем на самом деле закончится гражданская война в Нигерии.
Мятежники вели эффективную пропаганду, а Радио Биафры постоянно сообщало об их мнимых победах. Дипломатическое признание и поддержка со стороны Танзании, Замбии, Габона, Берега Слоновой Кости и Гаити, скрытая помощь такого государства, как Франция, и двойственная политика некоторых африканских и европейских стран - Дагомеи, Сьерра-Леоне, Западной Германии, Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции - привели к тому, что растущая иностранная помощь постоянно восполняла потери мятежников. Наши недоброжелатели начали высмеивать нигерийскую армию, утверждая, что у Нигерии не осталось надежды когда-либо стать единой.
Победа федералистов - захват следующего после Энугу административного центра мятежников, Умуахии,- была почти немедленно полностью перечеркнута потерей Оверри. Мятежники, воодушевленные захватом Оверри, быстро двинулись на юг и находились уже в 25км к северу от Порт-Харкорта. Федеральный контроль над Абой, и без того шаткий, еще более ослаб. 3-й дивизии грозило полное разложение. Повсеместными явлениями были дезертирство и самовольный уход с позиций. Неверие солдат в победу и отсутствие желания воевать ярко проявлялись в большом количестве "самострелов". Некоторые офицеры косвенно поощряли такие нарушения, покрывая их. Они способствовали падению воинской дисциплины, назначая своих родственников или соплеменников на охранную службу в тылу дивизии либо оставляя при себе. Взаимная подозрительность и неуверенность в своих силах проявлялись и среди офицеров. Таково было положение дел, когда меня назначили командиром 3-й дивизии нигерийской армии.
В командном составе федералистов возникли трения, вызванные слабым и неэффективным руководством боевыми действиями со стороны штаба главнокомандующего и штаба армии. Первым признаком надвигающегося кризиса явилась та бесцеремонность, с которой в начале 1968г. командир 2-й дивизии полковник Муртала Мохаммед покинул свою часть вскоре после занятия ею Оничи. Он обвинил штаб армии и, в частности, главнокомандующего в том, что они намеренно не предоставляют его дивизии оружия, боеприпасов и снаряжения, необходимого для быстрого и эффективного развития наступления. Прибыв в Лагос для того, чтобы найти пути и средства получения необходимого военного снаряжения для своей дивизии, Муртала обвинил военное руководство в умышленном затягивании войны. Следует отметить, что он добился от федерального правительства обещания взять на себя закупку оружия и снаряжения в Европе. После этого Муртала отказался вернуться в свою дивизию и 18 апреля 1968г. на вечернем штабном инструктаже открыто выразил свое полное несогласие с тем, как Лагос ведет войну, а также подверг сомнению военные таланты главнокомандующего. Выступление полковника Мохаммеда никого не удивило, так как взаимное доверие между ним и генералом Якубу Говоном начало ослабевать вскоре после переворота 29 июля 1966г., когда, по словам Мохаммеда, он обнаружил, что для того, чтобы контролировать столь сложную ситуацию, генералу Говону не хватает мужества. Офицеры штаба обвинили полковника Мохаммеда в нарушении дисциплины и неуважении к главнокомандующему и другим старшим офицерам. Якубу Говона попросили принять какие-либо решительные меры, чтобы в корне пресечь такие настроения в интересах сохранения дисциплины во всей армии. Конечно, никаких мер принято не было, пока Муртала сам не подал рапорт с просьбой об отставке. Не дождавшись решения своего вопроса, он уехал в отпуск за границу. Командиром 2-й дивизии был назначен полковник Ибрагим Харуна, бывший до этого штабным офицером в Лагосе, но он оказался не готов к тому, чтобы произвести радикальные перемены, необходимые для превращения 2-й дивизии в боеспособную часть. Поэтому Харуна так и не смог добиться никаких существенных военных успехов за те 15 месяцев, что находился во главе дивизии. Я тогда командовал гарнизоном в Ибадане, и он иногда жаловался мне на состояние дел в своем соединении.
В результате нехватки у федералистов военного снаряжения, необходимого для подавления сопротивления мятежников, усилившегося с прибытием наемников, и новых успехов Биафры на дипломатическом фронте вторая половина 1968г. прошла более или менее спокойно: на фронте установилось равновесие.
Необходимо отметить, что к 1969г. обострились противоречия между строевыми командирами и штабными офицерами в Лагосе. Хотя все сходились на том, что война должна вестись форсированными темпами, строевые командиры в массе своей считали, что штабные офицеры слишком спокойны, слишком мало знают о реальном положении дел на фронте, не принимают всех мер для снабжения воюющих частей необходимым снаряжением. Тот факт, что высокопоставленный офицер штаба главнокомандующего в такой момент позволил себе заняться изучением юриспруденции в Лагосском университете, показывает, насколько благодушно были настроены штабные офицеры. Я написал этому офицеру письмо, в котором выразил свое возмущение, а он мне ответил, что учится в свободное от работы в штабе время, когда другие офицеры предаются светским развлечениям или пьют. Офицеров штаба обвиняли также и в том, что они недостаточно отдают себе отчет в смертельных опасностях, угрожающих солдатам и офицерам на фронте, и умышленно задерживают поставки боевым частям военного снаряжения. Со своей стороны штабные офицеры считали, что строевые командиры расточительно используют это снаряжение, и упрекали их за частые невыполнения приказов штаба армии, за несогласованность действий и партизанщину. Обе стороны обвиняли друг друга в умышленном затягивании войны: штабные офицеры считали, что строевые командиры присваивают себе военную добычу, а последние - что в Лагосе существует заговор военных и гражданских с целью саботажа усилий боевых частей. Мой личный опыт работы на фронте и в тылу показал, что обеим сторонам не хватало взаимопонимания. В некоторых обвинениях могли быть крупицы истины, но в целом они были ошибочны. Поставщики сплетен и слухов не способствовали облегчению ситуации, перенося сплетни из Лагоса на фронт и обратно. Фронтовикам они рассказывали о темных замыслах штабных, а в столице - о бестолковых действиях строевых командиров. В основном слухи распространяли мелкие торговцы, бизнесмены и маркитантки.
В конце 1968 - начале 1969г. отсутствие успехов на фронте усугубилось появлением на Западе "агбекойи" - движения крестьян, протестующих против социальной несправедливости в штате. Протесты и волнения имели политическую подоплеку, что потребовало ответных политических действий со стороны главнокомандующего и его штаба. И хотя вскоре ситуация с "агбекойей" была урегулирована, офицеры и чиновники в Лагосе стали задумываться все чаще о положении дел на фронте и в стране. Сначала было предложено перестроить всю систему управления войсками. Предполагалось создать вне Лагоса полевой штаб, которому бы подчинялись все три дивизии, а штаб армии в Лагосе выполнял бы задачи по связи с другими государственными и негосударственными ведомствами и организациями с целью обеспечения снабжения и общего руководства, но без оперативного управления. Это предложение серьезно рассматривалось одно время, однако было отвергнуто из-за нехватки офицеров, необходимых для эффективного функционирования такой системы. Также изучались возможности реорганизации и изменения структуры каждой дивизии.
Пока происходили все эти обсуждения, военные и гражданские в Лагосе наконец осознали всю серьезность положения на южном театре военных действий. Были предприняты отчаянные усилия, чтобы блокировать мятежников в Оверри, а те, обнаружив наши слабые места, бросили все наличные силы против 3-й дивизии, чтобы расширить трещину в ее оборонительных позициях. За потерей Оверри быстро последовала потеря Огуты. Наши войска были близки к полному разложению, а мятежники рвались к Порт-Харкорту и нефтяным районам. Общая политическая и военная ситуации в Биафре и то, как Оджукву представлял себе будущее Биафры, нашли отражение в его речи по случаю второй годовщины провозглашения Восточного региона независимым государством.
Эти события привели к тому, что 9 мая 1969г. были отданы новые оперативные распоряжения, имевшие целью вновь захватить инициативу на всех фронтах. В соответствии с этими распоряжениями 12 мая 1969г. было объявлено о назначении новых командиров во все три дивизии: 1-й стал командовать полковник Бисалла, 2-й - полковник Джалло и 3-й - полковник Обасанджо. Были также определены основные задачи каждой дивизии:
1-я дивизия:
1) сменяет части 2-й дивизии в районе Оничи;
2) захватывает Нневи и развивает наступление;
3) захватывает Орлу и прилегающие районы.
2-я дивизия:
1) защищает Средний Запад;
2) удерживает оборонительные рубежи вдоль реки Нигер с целью предотвратить вторжение противника через реку на Средний Запад.
3-я дивизия:
1) стабилизирует и выравнивает оборонительную линию;
2) захватывает Оверри и развивает наступление;
3) захватывает Огуту и развивает наступление.
Во время того как в районе Оничи 1-я дивизия сменяла 2-ю, мятежники проникли на позиции федеральных войск и сделали попытку спровоцировать бунт в частях. Они были одеты в форму нигерийской армии, многие свободно говорили на хауса, йоруба и других языках. Провокаторы пытались посеять среди солдат смуту, намеренно распространяя лживые слухи о злоупотреблениях офицеров и об их дурном обращении с солдатами, призывали солдат к открытому бунту против своих командиров.
За день до объявления о смене командиров я был вызван в "Додан Бараке" и проинформирован о моем новом назначении. Я встретил эту новость хладнокровно. Некоторые из штабных офицеров, которые знали реальную ситуацию в зоне действий 3-й дивизии, выражали мне сочувствие, опасаясь за мою безопасность. Мне оставалось лишь поблагодарить их за эти чувства. Через день или два я прибыл в штаб армии, чтобы получить подробную информацию о положении дел на фронтах вообще и в районе действий вверенной мне дивизии в частности. Мне вручили оперативную карту, свежие разведывательные данные о мятежниках и копии последних распоряжений штаба армии. Получив информацию и документы, я выехал на фронт.
Нельзя забывать, что те командиры, у которых мы принимали дивизии, командовали ими от 15 до 22 месяцев. В гражданской войне именно командиры дивизий несли самую тяжелую ношу. Федеральная система закупок, снабжения и распределения не могла удовлетворить потребности воюющих частей. В то же самое время ответственность за разгром мятежа лежала целиком на строевых офицерах. Конечно, случались и ошибки, от которых не застрахован любой активный руководитель. Если бы командирам дивизий не приходилось постоянно изыскивать для себя снаряжение и если бы некоторые из них не были вынуждены нести груз политической и экономической ответственности в процессе переговоров на высоком уровне с нефтяными и другими компаниями, у них было бы больше времени для осуществления оперативного руководства своими соединениями.
Пока новые командиры осваивались, а 1-я и 2-я дивизии разбирались в новых зонах своих действий, штаб армии начал рассматривать идею создания Военного совета, который бы осуществлял оперативное руководство всеми тремя дивизиями. Этому предложению уделялось много внимания, пока военная удача не стала улыбаться 3-й дивизии, тогда оно было забыто.
Ранее я упоминал, что проникновение мятежников на Средний Запад вынудило нигерийскую армию вести боевые действия на трех фронтах, к чему она была плохо подготовлена. Первоначально планировалось, уважая нейтралитет правительства Среднего Запада, сохранить этот штат в качестве буферной зоны и атаковать мятежников на северном и южном направлениях. Наступление на юге возглавлял полковник Бенджамин Адекунле, бывший в начале войны командиром лагосского гарнизона. Три батальона, входившие в это соединение, и приняли участие в операции по захвату острова Бонни - морском десанте, осуществленном при поддержке нигерийского флота.
Вечером 26 июля 1967г. после жестокого и кровопролитного боя, длившегося весь день на суше и на море, 6-й, 7-й и 8-й батальоны, опираясь на захваченные плацдармы, полностью очистили Бонни от мятежников. Захват Бонни, его нефтяных установок и сооружений, еще более обострил положение на фронте "нефтяной политики", прямо или косвенно связанной с нигерийской гражданской войной на протяжении всех 30 месяцев боевых действий. Через 2 дня после падения Бонни Оджукву арестовал управляющего "Шелл-БП", желая взыскать с компании арендную плату за право разработки недр в пользу Биафры. Держали его под арестом месяц, но "Шелл-БП" утверждает, что денег Биафра так и не получила. Для французов, ассигновавших на помощь Биафре значительные суммы именно из-за ее нефти, потеря Бонни была довольно неприятным сюрпризом. Они немедленно выполнили свое обещание и предоставили Биафре наемников.
После вторжения мятежников на Средний Запад полковнику Адекунле, руководившему операцией по захвату Бонни, было приказано, оставив на острове один батальон, чтобы препятствовать любым вражеским действиям, с двумя оставшимися батальонами двигаться в район Эскравоса. Ему было поручено опрокинуть мятежников и очистить от них речные районы Среднего Запада. Адекунле, все силы которого оказались распылены, прибыл в Лагос и изложил свои проблемы штабу главнокомандующего. Подкреплениями из Кадуны, Зарии, Лагоса и Эскравоса численность вверенных ему формирований, которые были переименованы в 3-ю пехотную дивизию, довели до уровня бригады.
Операции 3-й дивизии на Среднем Западе начались в сентябре 1969г. силами трех батальонов, очистивших от мятежников район реки Варри, порты Коко и Янгтаун и окончивших наступление захватом Сапеле и Варри. Освобождение реки, пролива и порта Варри вновь открыли эти районы для торговли с остальной частью страны. Восстановление федеральной власти в порту, через который проходила международная торговля, укрепило военный и политический престиж федералистов и в стране, и за рубежом. В большинстве перечисленных пунктов, кроме порта Коко и Сапеле, серьезного сопротивления нашим войскам оказано не было. На этой стадии наступления взаимосвязь отдельных частей не была особенно тесной, и каждый батальон действовал более или менее независимо. Командование тремя батальонами было сосредоточено в руках майора Очефу, который лично возглавил военные действия в Варри. Очефу отмечал значительный вклад в борьбу со стороны местного населения, которое преследовало мятежников, вооружившись чем попало. Тем временем полковник Адекунле был занят разработкой оперативных планов и планов будущих операций. Он был доволен тем, как развивались события, хотя ему и хотелось, чтобы вверенное ему соединение называлось 2-й дивизией, а не 3-й, так как оно вступило в войну вторым по порядку. В последующих операциях на Среднем Западе были учтены уроки этого наступления, в значительной части основанного на высадках морского десанта и зависевшего поэтому от высоты волн прибоя, недостатка транспортных средств и необходимости использования наемных судов.
К концу сентября значительная часть Среднего Запада была очищена от мятежников, и встал вопрос, что же делать дальше. Полковник Адекунле еще раз посетил Лагос и добился разрешения именовать свою дивизию не 3-й пехотной, а 3-й дивизией морской пехоты из-за десантного характера операций, уже проведенных на среднем Западе и в штате Риверс и предстоящих в Юго-Восточном штате. Из Варри 3-я дивизия была переброшена на Бонни, где в октябре 1967г. развернулась подготовка операции "Тигриный коготь" - высадки с моря в Калабаре. Детальная разработка этой операции была поручена майору Филипу Афиегбе.
Полковник Адекунле предполагал взять Калабар без особого труда. Против 9-го батальона мятежников, оборонявшего побережье в районах Калабара и Орона, должно было действовать шесть батальонов по 500 человек в каждом. Десант поддерживался с моря флотилией под командованием капитана Соро. Правда, большая часть солдат были необстрелянными, за исключением 8-го батальона майора Тони Очефу и 33-го батальона майора Теда Хаммана, которые считались опытными боевыми частями. Они и должны были возглавить наступление на Калабар.
Корабль ВМФ "Локоджа", имея на борту 8-й батальон, вошел в устье реки Калабар утром 18 октября с опозданием на несколько часов. Хотя наши корабли и подвергли побережье сильному обстрелу, высадка 8-го батальона около мола цементного завода была встречена ружейным огнем моряков-мятежников. Через час завод был захвачен. После успешной высадки 8-го батальона, "Локоджа" вернулась за 33-м и 35-м батальонами, высадившимися на городском пляже Хеншоу. Утром следующего дня к ним присоединился и 37-й батальон майора Абубакара. Полковник Адекунле, сошедший на берег с передовыми частями, лично возглавил наступление трех батальонов из южных кварталов Калабара на засевших в городе мятежников с целью прижать их к позициям 8-го батальона и уничтожить. Эта тактика охвата оказалась настолько успешной, что в дивизии ей стали пользоваться постоянно. Появление наших солдат в Калабаре было восторженно встречено населением, и федеральным войскам было предложено всяческое содействие. В январе 1968г. дивизия захватила каучуковые плантации фирмы "Данлоп" к северу от Калабара. Победа федералистов под Калабаром показала французам, воюющим на стороне Оджукву, что и с их помощью Биафре не победить.
Почти одновременно взяв Энугу и Калабар, силы федерального правительства обеспечили себе господствующее положение в прибрежных водах Нигерии. Биафра была отрезана от моря. Аэропорт Порт-Харкорта остался единственным средством ее сообщения с внешним миром. Это заставило лидеров Биафры искать дополнительные позможности, и три участка шоссейной дороги, Авгу, Уга и Ули, были переоборудованы во взлетно-посадочные полосы. За границей знали о ходе войны и об успехах федералистов на всех фронтах. Чтобы добиться иностранной экономической, политической и военной помощи, Биафра и ее друзья стали еще громче кричать о геноциде и еще чаще демонстрировать в других странах фотографии голодающих детей.
Развитие операции "Тигриный коготь" ослабило гарнизон Бонни, значительно пополнивший наступающую 3-ю дивизию. Перед лицом весьма серьезной опасности, угрожающей острову, было принято решение выделить его в автономную зону с непосредственным подчинением Лагосу. К тому времени защитники Бонни понесли тяжелые потери. Их командир лейтенант Белло был тяжело ранен и эвакуирован в столицу. Через неделю то же самое случилось с его преемником лейтенантом Адедайо. Мятежники, терпевшие неудачи на Севере и на Среднем Западе, решили нанести эффектный удар, захватив Бонни. Это значительно подняло бы дух их армии и укрепило престиж сепаратистов за границей, особенно в глазах тех, кому они обещали нефть трех восточных штатов в обмен на валюту, военную поддержку и снаряжение. Чтобы выбить федералистов с острова, мятежники переправили на Бонни 4 самодельные бронемашины. Стрелковое вооружение и минометы защитников Бонни были не в силах справиться с "красными дьяволами". С воздуха наши силы постоянно подвергались нападению Б-26 мятежников и несли тяжелые потери. Сепаратистам удалось также поджечь нефтяные цистерны на складе. Федералисты были буквально прижаты к морю, и к рождеству 1967г. расстояние между ними и мятежниками составляло менее 100м. Положение на Бонни стало предметом пристального внимания Лагоса. Командиром наших частей на острове, получивших наименование 15-й бригады, был назначен Акинринаде. Новый командир вместо лобовых атак стал применять тактику захода мятежникам в тыл, и это принесло успех. Противник, понеся тяжелые потери в личном составе и снаряжении, в начале 1968г. был выбит с острова окончательно.
В конце января 1968г. было принято решение о проведении крупной операции. Согласно плану, в общем наступлении на Икот-Экпене и Порт-Харкорт должна была принять участие вся 3-я дивизия. Через 3 дня после взятия Обубры полковник Адекунле приказал начать наступление на Порт-Харкорт, которое он готовил в течение 6 недель. Все силы Биафры в районах Уйо и Аннанг в то время состояли из двух батальонов под командованием полковника Ифеаньи Аниебо, спешно доукомплектованных до уровня бригады. Введя в Уйо батальон гражданской милиции, мятежники пытались восстановить уверенность в колеблющемся гражданском населении и в слабеющих духом солдатах. Но это не могло помешать развитию операции федералистов. Наши силы, при поддержке ВВС и ВМФ высадившись в порту Орон и Иту, соединились в Уйо, отрезав большой отряд мятежников. Вскоре окруженные сдались. Над Икот-Экпене нависла такая же угроза, и почти все мятежники оставили его, укрывшись в буше.
Из Орона 16-я и 17-я бригады с некоторыми свежими частями постепенно подошли к Экету. Решающую роль в действиях дивизии сыграли Айзек Боро и его парни из "морской школы Риверса". Знание ими речных районов и местных наречий, неприхотливость и умение приспосабливаться к самым суровым условиям, их стремительные, хотя и не совсем тактически зрелые атаки, принесли значительный успех. Пока 16-я и 17-я бригады, захватив Опобо, готовились к наступлению на Порт-Харкорт, 15-я бригада предприняла довольно плохо подготовленную попытку атаковать его с моря и потерпела неудачу.
В апреле 1968г. с опозданием на 2 недели началось наступление на Порт-Харкорт. 17-я бригада подполковника Шанде успешно продвигалась вперед в течение трех недель через Обетте к Обигбо. Ни у нас, ни у противника не было бронемашин или артиллерии, а у бригады еще недоставало транспорта. Шанде применил довольно хитрый прием. Сначала он занимал стратегический район, затем выставлял на передовых позициях заградительный отряд, а основные силы начинали ликвидацию опорных пунктов противника местного значения, которые во время наступления обходились. Заградительный отряд на переднем крае не выдерживал контратак противника, и, когда он отходил, войска Биафры, полагавшие, что им удалось вернуть инициативу, оказывались окруженными. Этот тактический прием с успехом использовался на протяжении всей операции в районе Порт-Харкорта. В одном из таких боев погиб итальянский офицер-наемник. Джорджио Норбиатто, возглавлявший "коммандос" мятежников. 17-я бригада захватила Афам и электростанцию. Прекращение подачи электроэнергии в районы, занятые мятежниками, "притушило" свет надежды над Биафрой.
Успешное наступление федералистов резко ухудшило настроение в Порт-Харкорте и новом штабе мятежников в Умуахии. Джо Ачузиа, имевший огромный авторитет после упорной обороны им Оничи и удачной засады на колонну 2-й дивизии в Абагане, был направлен в Порт-Харкорт. В Окрике мятежником-дезертиром случайно был убит майор Айзек Боро. Его смерть почти немедленно привела к распаду 19-й бригады, которая без него не поддавалась никакому контролю. 19 мая 1968г. войска 3-й дивизии вошли в Порт-Харкорт. После захвата Бонни, Энугу и Калабара эта операция показала всему миру, что инициативой владеет федеральное правительство. Наемники, бежавшие из Биафры, рассказывали о победах федеральных войск. Это опять вызвало вспышку дипломатической активности друзей Биафры с целью продлить ее существование. Примерно в это время Танзания стала первой страной, официально признавшей Биафру.
Хотя войска устали, захват Порт-Харкорта очень сильно поднял престиж и репутацию дивизии и ее командира. Учитывая это, полковник Адекунле стал рассматривать войну не только как средство подавления мятежа, но и как возможность создать себе солидный политический капитал для получения высокого государственного поста. Я знал ряд уроженцев Западного штата, которые считали себя ущемленными в политическом отношении и которые рассматривали полковника Адекунле как своего спасителя. Они говорили ему об этом, и он им верил. Следующим шагом полковника Адекунле был грандиозный план, который он окрестил "операция ОАУ" - одновременный захват Оверри, Абы и Умуахии.
4 сентября 1968г. 17-я бригада захватила торговый центр Аба. 16 сентября 16-я бригада вошла в Оверри, служивший административной столицей Биафры. Отчаянное сопротивление в этих операциях оказывали "коммандос" мятежников во главе с наемником Штайнером. Но успех в районе Оверри и Абы был более чем воодушевляющим, и федералистам начало казаться, что 1968г. будет последним годом гражданской войны. Однако командира дивизии беспокоило, что Умуахию взять не удалось и надежды на это почти не было.
Необходимо отметить, что самым большим препятствием на пути завершения войны и причиной неудач федеральных сил в начале 1969г. было возобновление в конце 1968г. французской помощи Биафре. Французы поставляли мятежникам военное снаряжение, наемников и прилагали немалые усилия по обеспечению дипломатического признания Биафры. Эта поддержка усилила сопротивление мятежников и сделала возможным мощное контрнаступление их сил на Оверри и Абу на рождество 1968г. Контрнаступление выдохлось, не принеся результатов, но началась более решительная атака на Оверри 14-й дивизией армии Биафры при поддержке "коммандос", ядро которой составляли наемники. В марте 1969г. мятежникам удалось окружить в Оверри нашу 16-ю бригаду. Положение стало таким серьезным, что в течение 6 недель штаб армии был вынужден снабжать окруженные войска по воздушному мосту. Большая часть грузов сбрасывалась над бушем и либо пропадала, либо становилась добычей мятежников. Ночью 22 апреля 1969г. наша бригада отступила из Оверри по дороге, о существовании которой мятежники не знали. Это был удачный тактический отход, который, однако, мог обернуться паническим бегством, если бы не мужество, дисциплина и опыт солдат и офицеров. Осада, отступление и понесенные в результате потери развеяли миф о непобедимости дивизии, углубили разочарование и довели морально-боевой настрой личного состава до самого низкого уровня. В то же время боевой дух мятежников укреплялся. Чтобы остановить опасное развитие событий на фронте, которое могло привести к военной и политической катастрофе, нужны были решительные перемены.
ГЛАВА VI. СМЕНА КОМАНДОВАНИЯ
К концу апреля 1969г., после почти двух лет братоубийственной, кровопролитной войны, стало очевидно, что федеральной стороне еще далеко до победы. Мятежникам удалось добиться по меньшей мере равновесия сил. Самый большой оптимист не поверил бы, если бы ему сказали тогда, насколько быстро и чем на самом деле закончится гражданская война в Нигерии.
Мятежники вели эффективную пропаганду, а Радио Биафры постоянно сообщало об их мнимых победах. Дипломатическое признание и поддержка со стороны Танзании, Замбии, Габона, Берега Слоновой Кости и Гаити, скрытая помощь такого государства, как Франция, и двойственная политика некоторых африканских и европейских стран - Дагомеи, Сьерра-Леоне, Западной Германии, Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции - привели к тому, что растущая иностранная помощь постоянно восполняла потери мятежников. Наши недоброжелатели начали высмеивать нигерийскую армию, утверждая, что у Нигерии не осталось надежды когда-либо стать единой.
Победа федералистов - захват следующего после Энугу административного центра мятежников, Умуахии,- была почти немедленно полностью перечеркнута потерей Оверри. Мятежники, воодушевленные захватом Оверри, быстро двинулись на юг и находились уже в 25км к северу от Порт-Харкорта. Федеральный контроль над Абой, и без того шаткий, еще более ослаб. 3-й дивизии грозило полное разложение. Повсеместными явлениями были дезертирство и самовольный уход с позиций. Неверие солдат в победу и отсутствие желания воевать ярко проявлялись в большом количестве "самострелов". Некоторые офицеры косвенно поощряли такие нарушения, покрывая их. Они способствовали падению воинской дисциплины, назначая своих родственников или соплеменников на охранную службу в тылу дивизии либо оставляя при себе. Взаимная подозрительность и неуверенность в своих силах проявлялись и среди офицеров. Таково было положение дел, когда меня назначили командиром 3-й дивизии нигерийской армии.
В командном составе федералистов возникли трения, вызванные слабым и неэффективным руководством боевыми действиями со стороны штаба главнокомандующего и штаба армии. Первым признаком надвигающегося кризиса явилась та бесцеремонность, с которой в начале 1968г. командир 2-й дивизии полковник Муртала Мохаммед покинул свою часть вскоре после занятия ею Оничи. Он обвинил штаб армии и, в частности, главнокомандующего в том, что они намеренно не предоставляют его дивизии оружия, боеприпасов и снаряжения, необходимого для быстрого и эффективного развития наступления. Прибыв в Лагос для того, чтобы найти пути и средства получения необходимого военного снаряжения для своей дивизии, Муртала обвинил военное руководство в умышленном затягивании войны. Следует отметить, что он добился от федерального правительства обещания взять на себя закупку оружия и снаряжения в Европе. После этого Муртала отказался вернуться в свою дивизию и 18 апреля 1968г. на вечернем штабном инструктаже открыто выразил свое полное несогласие с тем, как Лагос ведет войну, а также подверг сомнению военные таланты главнокомандующего. Выступление полковника Мохаммеда никого не удивило, так как взаимное доверие между ним и генералом Якубу Говоном начало ослабевать вскоре после переворота 29 июля 1966г., когда, по словам Мохаммеда, он обнаружил, что для того, чтобы контролировать столь сложную ситуацию, генералу Говону не хватает мужества. Офицеры штаба обвинили полковника Мохаммеда в нарушении дисциплины и неуважении к главнокомандующему и другим старшим офицерам. Якубу Говона попросили принять какие-либо решительные меры, чтобы в корне пресечь такие настроения в интересах сохранения дисциплины во всей армии. Конечно, никаких мер принято не было, пока Муртала сам не подал рапорт с просьбой об отставке. Не дождавшись решения своего вопроса, он уехал в отпуск за границу. Командиром 2-й дивизии был назначен полковник Ибрагим Харуна, бывший до этого штабным офицером в Лагосе, но он оказался не готов к тому, чтобы произвести радикальные перемены, необходимые для превращения 2-й дивизии в боеспособную часть. Поэтому Харуна так и не смог добиться никаких существенных военных успехов за те 15 месяцев, что находился во главе дивизии. Я тогда командовал гарнизоном в Ибадане, и он иногда жаловался мне на состояние дел в своем соединении.
В результате нехватки у федералистов военного снаряжения, необходимого для подавления сопротивления мятежников, усилившегося с прибытием наемников, и новых успехов Биафры на дипломатическом фронте вторая половина 1968г. прошла более или менее спокойно: на фронте установилось равновесие.
Необходимо отметить, что к 1969г. обострились противоречия между строевыми командирами и штабными офицерами в Лагосе. Хотя все сходились на том, что война должна вестись форсированными темпами, строевые командиры в массе своей считали, что штабные офицеры слишком спокойны, слишком мало знают о реальном положении дел на фронте, не принимают всех мер для снабжения воюющих частей необходимым снаряжением. Тот факт, что высокопоставленный офицер штаба главнокомандующего в такой момент позволил себе заняться изучением юриспруденции в Лагосском университете, показывает, насколько благодушно были настроены штабные офицеры. Я написал этому офицеру письмо, в котором выразил свое возмущение, а он мне ответил, что учится в свободное от работы в штабе время, когда другие офицеры предаются светским развлечениям или пьют. Офицеров штаба обвиняли также и в том, что они недостаточно отдают себе отчет в смертельных опасностях, угрожающих солдатам и офицерам на фронте, и умышленно задерживают поставки боевым частям военного снаряжения. Со своей стороны штабные офицеры считали, что строевые командиры расточительно используют это снаряжение, и упрекали их за частые невыполнения приказов штаба армии, за несогласованность действий и партизанщину. Обе стороны обвиняли друг друга в умышленном затягивании войны: штабные офицеры считали, что строевые командиры присваивают себе военную добычу, а последние - что в Лагосе существует заговор военных и гражданских с целью саботажа усилий боевых частей. Мой личный опыт работы на фронте и в тылу показал, что обеим сторонам не хватало взаимопонимания. В некоторых обвинениях могли быть крупицы истины, но в целом они были ошибочны. Поставщики сплетен и слухов не способствовали облегчению ситуации, перенося сплетни из Лагоса на фронт и обратно. Фронтовикам они рассказывали о темных замыслах штабных, а в столице - о бестолковых действиях строевых командиров. В основном слухи распространяли мелкие торговцы, бизнесмены и маркитантки.
В конце 1968 - начале 1969г. отсутствие успехов на фронте усугубилось появлением на Западе "агбекойи" - движения крестьян, протестующих против социальной несправедливости в штате. Протесты и волнения имели политическую подоплеку, что потребовало ответных политических действий со стороны главнокомандующего и его штаба. И хотя вскоре ситуация с "агбекойей" была урегулирована, офицеры и чиновники в Лагосе стали задумываться все чаще о положении дел на фронте и в стране. Сначала было предложено перестроить всю систему управления войсками. Предполагалось создать вне Лагоса полевой штаб, которому бы подчинялись все три дивизии, а штаб армии в Лагосе выполнял бы задачи по связи с другими государственными и негосударственными ведомствами и организациями с целью обеспечения снабжения и общего руководства, но без оперативного управления. Это предложение серьезно рассматривалось одно время, однако было отвергнуто из-за нехватки офицеров, необходимых для эффективного функционирования такой системы. Также изучались возможности реорганизации и изменения структуры каждой дивизии.
Пока происходили все эти обсуждения, военные и гражданские в Лагосе наконец осознали всю серьезность положения на южном театре военных действий. Были предприняты отчаянные усилия, чтобы блокировать мятежников в Оверри, а те, обнаружив наши слабые места, бросили все наличные силы против 3-й дивизии, чтобы расширить трещину в ее оборонительных позициях. За потерей Оверри быстро последовала потеря Огуты. Наши войска были близки к полному разложению, а мятежники рвались к Порт-Харкорту и нефтяным районам. Общая политическая и военная ситуации в Биафре и то, как Оджукву представлял себе будущее Биафры, нашли отражение в его речи по случаю второй годовщины провозглашения Восточного региона независимым государством.
Эти события привели к тому, что 9 мая 1969г. были отданы новые оперативные распоряжения, имевшие целью вновь захватить инициативу на всех фронтах. В соответствии с этими распоряжениями 12 мая 1969г. было объявлено о назначении новых командиров во все три дивизии: 1-й стал командовать полковник Бисалла, 2-й - полковник Джалло и 3-й - полковник Обасанджо. Были также определены основные задачи каждой дивизии:
1-я дивизия:
1) сменяет части 2-й дивизии в районе Оничи;
2) захватывает Нневи и развивает наступление;
3) захватывает Орлу и прилегающие районы.
2-я дивизия:
1) защищает Средний Запад;
2) удерживает оборонительные рубежи вдоль реки Нигер с целью предотвратить вторжение противника через реку на Средний Запад.
3-я дивизия:
1) стабилизирует и выравнивает оборонительную линию;
2) захватывает Оверри и развивает наступление;
3) захватывает Огуту и развивает наступление.
Во время того как в районе Оничи 1-я дивизия сменяла 2-ю, мятежники проникли на позиции федеральных войск и сделали попытку спровоцировать бунт в частях. Они были одеты в форму нигерийской армии, многие свободно говорили на хауса, йоруба и других языках. Провокаторы пытались посеять среди солдат смуту, намеренно распространяя лживые слухи о злоупотреблениях офицеров и об их дурном обращении с солдатами, призывали солдат к открытому бунту против своих командиров.
За день до объявления о смене командиров я был вызван в "Додан Бараке" и проинформирован о моем новом назначении. Я встретил эту новость хладнокровно. Некоторые из штабных офицеров, которые знали реальную ситуацию в зоне действий 3-й дивизии, выражали мне сочувствие, опасаясь за мою безопасность. Мне оставалось лишь поблагодарить их за эти чувства. Через день или два я прибыл в штаб армии, чтобы получить подробную информацию о положении дел на фронтах вообще и в районе действий вверенной мне дивизии в частности. Мне вручили оперативную карту, свежие разведывательные данные о мятежниках и копии последних распоряжений штаба армии. Получив информацию и документы, я выехал на фронт.
Нельзя забывать, что те командиры, у которых мы принимали дивизии, командовали ими от 15 до 22 месяцев. В гражданской войне именно командиры дивизий несли самую тяжелую ношу. Федеральная система закупок, снабжения и распределения не могла удовлетворить потребности воюющих частей. В то же самое время ответственность за разгром мятежа лежала целиком на строевых офицерах. Конечно, случались и ошибки, от которых не застрахован любой активный руководитель. Если бы командирам дивизий не приходилось постоянно изыскивать для себя снаряжение и если бы некоторые из них не были вынуждены нести груз политической и экономической ответственности в процессе переговоров на высоком уровне с нефтяными и другими компаниями, у них было бы больше времени для осуществления оперативного руководства своими соединениями.
Пока новые командиры осваивались, а 1-я и 2-я дивизии разбирались в новых зонах своих действий, штаб армии начал рассматривать идею создания Военного совета, который бы осуществлял оперативное руководство всеми тремя дивизиями. Этому предложению уделялось много внимания, пока военная удача не стала улыбаться 3-й дивизии, тогда оно было забыто.

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
 Re: Литература
Re: Литература
ГЛАВА VII. Я ВХОЖУ В КУРС ДЕЛА
16 мая 1969г. в Порт-Харкорте я официально принял командование. Бывший командир полковник Адекунле прибыл из Порт-Харкорта в Лагос, и после непродолжительной беседы с ним я тем же самолетом вылетел в расположение дивизии. Перед самым отлетом в аэропорту Икеджа состоялась краткая пресс-конференция. В тот день я не очень понравился журналистам, так как они ожидали многословных разглагольствований о великих подвигах, которые я намерен совершить на фронте. Вместо этого я сказал им, что у меня нет причин быть недовольным моим новым назначением и что я надеюсь оправдать доверие, оказанное мне. Я выразил уверенность в том, что армия не может быть совершенно независимой от политической, экономической и социальной жизни общества, которому она служит, и не только потому, что политики используют ее для достижения своих целей, но главным образом потому, что слишком часто армии приходится принимать на себя политические функции. Я убежден, что солдаты должны действовать, а не рассуждать о деятельности, так как дела всегда убедительнее слов, особенно у военных. Я сказал журналистам, что в наши дни, когда все требуют мира на земле, мне, как солдату, предоставилась уникальная возможность применить на практике свои знания и профессиональную подготовку. Отказаться от нее было бы то же, что хирургу, который всю жизнь тренировался на куклах, отказаться или пренебречь своим долгом, когда возникла необходимость оперировать живое существо. Мое назначение дает мне счастливую возможность исполнить долг перед родиной. После этой пресс-конференции и бесед с отдельными журналистами в Порт-Харкорте на меня нацепили ярлыки "избегающего рекламы", "пугающегося фотокамеры" и так далее.
У летевшего со мной майора Инни, и.о. начальника оперативного отдела дивизии, имелась подробная карта, которую он уже показывал мне в штабе армии, наверно не подозревая, что она меня больше расстраивает, чем впечатляет. Ситуация на фронте, судя по карте и по рассказам майора Инни, была невеселой. Мне уже было доложено, что, помимо прочего, в соединении процветает взаимное недоверие и склоки между офицерами, поэтому я больше думал не о сложившейся военной обстановке, а о том, как сделать дивизию боеспособной частью. Дружба и взаимопомощь, может быть, и не играют решающей роли на производстве или в административной деятельности, но для успеха воинской части на фронте они совершенно необходимы. Отсутствие единства среди командного состава дивизии уже проявилось, например, в отказе двух старших офицеров, подполковников Акинринаде и Алаби-Исама, самовольно уехавших в Лагос, вернуться в дивизию, пока там находился ее бывший командир. Эти офицеры были уверены в том, что они будут убиты, если вернуться в расположение части. Пока я думал о том, как возродить единство офицеров, мы приземлились в Порт-Харкорте.
В аэропорту был выстроен почетный караул из солдат, полицейских, военнослужащих ВВС и ВМФ. Я с удовольствием отметил этот пример сотрудничества различных родов войск, и особенно армии и полиции. У самолета меня встретил военный губернатор капитан второго ранга Диете-Спифф, со своей командой почти в полном составе и старшими офицерами армии. После краткого обмена приветствиями мы с губернатором поехали к нему домой. Этот простой акт вежливости и гостеприимства, удививший всех присутствовавших, положил начало отношениям доброжелательности и взаимного уважения, которые существовали между военными и гражданскими властями на протяжении всего моего пребывания в Порт-Харкорте. Далее я еще скажу об этом.
Командир 1-го сектора подполковник Годвин Алли, исполняющий обязанности начальника штаба дивизии, извинившись, предупредил меня, что в ближайшее время я не смогу поселиться в доме, предназначенном для меня, "так как там не хватает многих вещей, которые еще не успели достать или починить", и пригласил меня временно разместиться в его собственном доме. Тем не менее я решил сразу же въезжать в свой дом независимо от его состояния. Ремонт вполне мог продолжаться и при мне.
В тот же день должны были состояться две вечеринки, на которые мне посоветовали пойти, так как это традиционно ожидалось от командира дивизии. Мне это не понравилось по следующим причинам: во-первых, крайне тяжелое положение дел на фронтах, не являвшееся секретом ни для меня, ни для всех остальных, никак не располагало к веселью, а во-вторых, я вообще не люблю посещать увеселительные мероприятия, за исключением необходимых по долгу службы или устраиваемых очень близкими друзьями. Но все же я туда пошел. Первая вечеринка была организована капитаном Патриком Идоко в честь появления на свет его ребенка, а вторая - по случаю прощания майора ВВС Ато со своими коллегами перед переводом в Энугу. Когда в доме Ато я попросил молока, один из офицеров заметил мне: "Сэр, ведь это напиток для младенцев"; я ответил, что, очевидно, еще продолжаю расти. Офицеры были удивлены и несколько разочарованы тем, что их новый командир не употребляет спиртного. На обеих вечеринках я провел не более 15 минут, после чего пошел домой спать.
Докладывая распорядок дня, штабной офицер сообщил мне, что работа в канцелярии обычно начинается в 9 часов утра, а от меня ждут, что я буду приходить на работу хотя бы к 10. Я молча выслушал это предложение, вспомнив, однако, известное высказывание генерала Эйзенхауэра о том, что человек, не сделавший половину дневной работы до 10 часов утра, рискует не сделать второй половины вообще. И вот 17 мая 1969г.- мой первый рабочий день в Порт-Харкорте. Я был в своем кабинете к 8 часам утра, но увидел лишь нескольких солдат, убиравших рабочие помещения. Ни одного офицера, естественно, в штабе не было. Очевидно, полковник Адекунле привык всю текущую работу делать сам, о чем свидетельствовал несколько поверхностный характер его докладов.
На двери его кабинета висел плакат с надписью: "Не входить под угрозой смерти". Я сорвал его и сгоряча забросил метров на пятьдесят, а спустя некоторое время увидел в окно, как солдат с удовольствием поднял плакат с земли, понес его высоко над головой, а затем, разломав, выбросил на свалку. Я вряд ли смогу когда-нибудь оценить весь эффект, произведенный этим моим жестом, но должен отметить, что, если бы я внял просьбам прибыть в Порт-Харкорт, пока там еще находился мой предшественник, поступить так с этой вывеской было бы бестактно.
Несколько раньше в Лагосе главнокомандующий, искренне беспокоящийся за судьбу операций на южном направлении, советовал мне обязательно пробыть в Порт-Харкорте 2-3 дня с уходящим командиром, чтобы из первых рук получить всю необходимую информацию. Я же придерживался другого мнения. Командир дивизии подобен послу: нельзя иметь двух послов, представляющих страну, одновременно - один должен выехать до прибытия другого. Акта о сдаче-приеме полномочий, доклада штабных офицеров и нижестоящих командиров должно быть вполне достаточно для того, чтобы новый начальник, если он на что-то годится, вошел в курс дела. Кроме того, в соответствии с воинскими традициями уходящего командира провожают с подобающими почестями, которым не должно мешать и которые не должно ограничивать присутствие нового начальства. Предложенный мной порядок "передачи власти" был целесообразен, и главнокомандующий согласился с моими доводами.
Оперативные распоряжения штаба армии от 9 мая 1969г., ссылаясь на надежные разведывательные данные, исходили из того, что мятежники попытаются захватить Порт-Харкорт до 30 мая 1969г., то есть ко второй годовщине провозглашения Биафры. Далее следовали подробные инструкции о тех мерах безопасности, которые следовало принять. Указания были четкими и недвусмысленными, но я сам был намерен определять последовательность в исполнении своих обязанностей в дивизии, а также пути и способы этого.
Еще до того, как я покинул Лагос, я был твердо уверен лишь в одном: в необходимости полностью выплатить всем солдатам их жалованье. Когда я был курсантом, меня учили, что для того, чтобы требовать от солдат полной отдачи, на какую они способны, надо проявлять постоянную заботу об их благополучии, особенно о размещении, питании, денежном довольствии и отпусках. Солдаты 3-й дивизии ни разу не получали отпусков и своего жалованья полностью. Кем-то было решено, что его надо сохранить до лучших времен независимо от того, нуждался солдат в жалованье или нет. Что касается питания, то оно целиком зависело от обстоятельств, а окопы для большинства солдат служили лучшим видом жилья.
После доклада начальников отделов штаба я попросил подполковника Годвина Алли подготовить мне в течение 48 часов подробный план нашего наступления на Охобу, местечко в 25км от Оверри. Моя цель состояла в том, чтобы нанести удар по мятежникам как можно ближе к их основной базе, что могло заставить их отложить свое наступление на Порт-Харкорт или отойти. Мне нужно было выиграть время, чтобы продумать все детали сложившегося положения. Другими словами, планируемое наступление на Охобу было необходимо для того, чтобы сорвать планы мятежников, как я их себе представлял: мощный удар по нашим позициям в переходный период передачи командования в дивизии.
После совещания я хотел ознакомиться с работой госпиталя, а затем посетить военное кладбище и отдать дань памяти погибших в этой войне. Начальник госпиталя доктор Нья не успел специально подготовиться к моему посещению. Его работа и весь коллектив произвели на меня очень хорошее впечатление. Доктор Нья был спокойным, скромным, преданным своему делу специалистом. До того как к нему присоединился еще один неутомимый доктор, майор Ферейра, Нья работал в одиночку, не покладая рук день и ночь, и очень помогал дивизии. Побеседовав почти с каждым пациентом, я начал лучше представлять себе проблемы и нужды солдат боевых частей. Мое посещение госпиталя в первый же день пребывания в Порт-Харкорте изменило решение доктора Нья покинуть дивизию, о чем он уже договорился с моим предшественником. Как позднее выяснилось, многие офицеры, после объявления о моем назначении обещавшие уйти из дивизии, как часто бывает в подобных обстоятельствах, раздумали это делать. Все они со мной быстро сработались, и наши совместные усилия завершились победой в гражданской войне.
К концу первого дня я оценил весь масштаб работы, которая мне предстояла, и пришел к выводу, что стоящие передо мной задачи лежат в области руководства военными действиями и в области руководства людьми. Военные цели были изложены в директиве штаба армии. Мне оставалось лишь определить методы их достижения. Но надо было также выработать цели в области управления людьми. Без положительных результатов на этом поприще нельзя было приступать к решению военных задач, не говоря уж о том, чтобы их успешно выполнить. Самым важным инструментом в военном искусстве до сих пор остаются люди. Без них все самые совершенные машины, оборудование и другие средства совершенно бесполезны.
Сложившийся механизм управления дивизией необходимо было приспособить к моим целям и методам. Я должен был также улучшить снабжение частей, удовлетворить потребности солдат и заставить сплотиться офицеров. Чтобы добиться скорейшего эффекта от моего перевода в дивизию, мне необходимо было увидеть и услышать как можно больше солдат и чтобы как можно больше солдат увидело и услышало меня. Нужно было заставить их понять меня.
Итак, цели были ясны: превратить дивизию в гордую, гармоничную и грозную боевую часть с высокими морально-боевыми качествами, заразить офицеров и солдат чувством преданности делу, вселить в них мужество и решимость драться, невзирая на мощь противника, создать атмосферу товарищества, уверенности в победе, стабилизировать отношения между военными и гражданскими, в том числе и гражданской администрацией, добиться того, чтобы все нигерийцы в нашей оперативной зоне, невзирая на их принадлежность к различным этническим группам, относились друг к другу с любовью. Если мне удастся всего этого достичь, то и оперативный успех будет обеспечен.
18 мая исполнилась первая годовщина освобождения Порт-Харкорта федеральными войсками. Она отмечалась очень торжественно: на стадионе состоялся парад, затем - выступление народных ансамблей штата Риверс и традиционные танцы изумительно красивых женщин штата. Перед тем как ехать на стадион, я зашел в канцелярию, чтобы ознакомиться со срочными бумагами, подготовленными подполковником Алли и отдать необходимые распоряжения. План я принял с незначительными исправлениями и назначил операцию по захвату Охобы на 20 мая.
Праздничный парад прошел очень хорошо. В своей речи губернатор поблагодарил федеральные войска за освобождение штата Риверс и призвал его население к упорному труду. Вечером в резиденции губернатора состоялся прием, на котором я был представлен членам местной администрации.
19 мая вместе с майором Джорджем Инни я посетил Элеле, чтобы проверить готовность войск 1-го сектора к наступлению на Охобу. Из пополнения уже были выделены подразделения, которые должны были на следующий день идти в бой, но в них отсутствовал офицерский состав. Мне объяснили, что офицеры 16-й бригады, недавно выведенной из Оверри с тяжелыми потерями, отказались принимать участие в каких-либо боевых действиях, совершенно безосновательно считая, что, когда они были в окружении, их бросили на произвол судьбы. Мне удалось вызвать их на откровенный разговор, после которого все офицеры согласились принять участие в операции под командованием майора А.Алийю.
20 мая наступление на Охобу чуть было не сорвалось. К 9 часам утра, когда я прибыл на исходные позиции, войскам только раздавали боеприпасы. Мне пришлось выступить перед солдатами и офицерами. Наконец незадолго до полудня операция началась. Нам с незначительными потерями удалось продвинуться примерно на километр. Это было первое наступление в зоне действий сектора с момента сдачи Оверри. Возвращаясь на исходные позиции, мы с командиром сектора попали в засаду и едва не погибли. Чтобы лучше ознакомиться с местностью, я попросил командира сектора повезти меня другой дорогой, он легко согласился, не предполагая, что впереди может быть устроена засада, на которую и напоролся ехавший первым джип с охраной. Моя машина следовала за ним. Благодаря мастерству и быстрой реакции водителей, обе машины удалось вывести из-под огня, хотя один джип был прострелен, а несколько сидевших в нем солдат получили ранения. Информация об этом незначительном инциденте чрезвычайно быстро разнеслась по Лагосу и всему Западу, но в таком запутанном и искаженном виде, что некоторые мои друзья отправились в госпиталь Ибаданского университета, чтобы разыскать мое тело.
Проведенная нами операция приостановила продвижение мятежников в южном направлении и дала мне возможность тщательно изучить обстановку. Вечером 20 мая я провел первое совещание со всеми командирами, начальниками вспомогательных служб и штабными офицерами. В дивизию вернулись подполковники Акинринаде и Алаби-Исама, которым я не разрешил лететь вместе со мной из Лагоса в Порт-Харкорт, чтобы окончательно не подорвать дисциплину. Беседуя с ними в Лагосе, я не стал скрывать, что, если бывший командир предъявит им обвинения в совершении какого-либо нарушения, оно будет разбираться в соответствии с военными законами. Однако опасения этих офицеров были напрасны, так как до самого конца гражданской войны никаких обвинений им предъявлено не было.
Целью моего первого совещания было познакомиться с возможно большим числом офицеров дивизии, выявить пороки, мешающие ее нормальному функционированию, и посвятить присутствующих в мои замыслы. Я начал совещание с того, что попросил почтить минутой молчания память военнослужащих дивизии, погибших в войне. Затем я выразил глубокую признательность всему личному составу дивизии, в том числе и моему предшественнику, за прекрасные результаты, достигнутые ими в боях за единство и территориальную целостность Нигерии.
Переходя к основной части совещания я попросил присутствующих искренне и честно высказать свое мнение по поводу трудностей, стоящих перед дивизией, подчеркнув, что меня интересует, не кто виноват в проблемах, а в чем они заключаются. После того как я оборвал несколько выступлений, принявших характер обличения и взаимного сведения счетов, многие офицеры свободно, справедливо и честно изложили свои точки зрения. Многие высказывались по четырем главным темам: боевые действия отдельных частей, профессиональная подготовка войск, материальное обеспечение и дисциплина. На совещании мне открылась еще одна сторона человеческого характера: офицеры, которые всего за неделю до сегодняшнего дня тесно сотрудничали со своим бывшим командиром, в моем присутствии торопились обвинить его во всех смертных грехах. Я резко пресекал подобные попытки, но такое поведение еще раз напомнило мне о некоторых непривлекательных особенностях человеческой натуры.
Во время совещания мне стало ясно, что дивизия, добивавшаяся быстрых успехов в речных и относительно дружественных районах Среднего Запада, Юго-Восточного штата и штата Риверс, не изменила тактических приемов, начав боевые действия целиком на суше и во враждебно настроенных районах, населенных ибо. Не обладая необходимыми резервами, дивизия так же быстро теряла завоеванное, как и приобретала его. Войска, не знавшие до этого поражений, были совершенно деморализованы. После того как я изложил первоочередные задачи и свои взгляды на вопросы подготовки, материального обеспечения и дисциплины в дивизии, я обратился ко всем офицерам с призывом стремиться к сотрудничеству, соблюдать порядок и неукоснительно выполнять приказы.
После встречи со старшими офицерами я решил ознакомиться с положением дел в частях, увидеть как можно больше солдат и поговорить с ними. Сначала я посетил 1-й сектор, состоявший из 15-й, 16-й бригад и особой тактической группы (ОТГ). Командир сильно потрепанной в боях 16-й бригады майор Утук был в отпуске, и бригадой временно командовал офицер запаса лейтенант Бухари. ОТГ под командованием майора Алийю представляла собой часть, наспех сформированную для спасения Оверри. Единственное, что было в этой части "особого",- так это ее дезорганизация. Группа не имела ни офицерского, ни сержантского состава, у нее отсутствовала собственная материально-техническая база. Солдаты в изношенном обмундировании бесцельно бродили по расположению части. В Элеле, где находились штабы сектора, 16-й бригады и ОТГ, каждый из которых вел свои административные дела независимо от других, поддержание дисциплины было крайне трудным делом. Положение, сложившееся в 1-м секторе, который считался самым благополучным в дивизии, не обрадовало меня. Отношение к делу его командира, оскорбленного тем, что ему не дали повышения по службе, было весьма легкомысленным и безразличным. Во время беседы он сказал мне, что, если дела сложатся для Нигерии плохо, он переселится с семьей в Голландию. Очевидно, этот офицер уже просил о переводе из дивизии, поскольку его имя даже не значилось в списке старших офицеров, переданном мне моим предшественником.
...
16 мая 1969г. в Порт-Харкорте я официально принял командование. Бывший командир полковник Адекунле прибыл из Порт-Харкорта в Лагос, и после непродолжительной беседы с ним я тем же самолетом вылетел в расположение дивизии. Перед самым отлетом в аэропорту Икеджа состоялась краткая пресс-конференция. В тот день я не очень понравился журналистам, так как они ожидали многословных разглагольствований о великих подвигах, которые я намерен совершить на фронте. Вместо этого я сказал им, что у меня нет причин быть недовольным моим новым назначением и что я надеюсь оправдать доверие, оказанное мне. Я выразил уверенность в том, что армия не может быть совершенно независимой от политической, экономической и социальной жизни общества, которому она служит, и не только потому, что политики используют ее для достижения своих целей, но главным образом потому, что слишком часто армии приходится принимать на себя политические функции. Я убежден, что солдаты должны действовать, а не рассуждать о деятельности, так как дела всегда убедительнее слов, особенно у военных. Я сказал журналистам, что в наши дни, когда все требуют мира на земле, мне, как солдату, предоставилась уникальная возможность применить на практике свои знания и профессиональную подготовку. Отказаться от нее было бы то же, что хирургу, который всю жизнь тренировался на куклах, отказаться или пренебречь своим долгом, когда возникла необходимость оперировать живое существо. Мое назначение дает мне счастливую возможность исполнить долг перед родиной. После этой пресс-конференции и бесед с отдельными журналистами в Порт-Харкорте на меня нацепили ярлыки "избегающего рекламы", "пугающегося фотокамеры" и так далее.
У летевшего со мной майора Инни, и.о. начальника оперативного отдела дивизии, имелась подробная карта, которую он уже показывал мне в штабе армии, наверно не подозревая, что она меня больше расстраивает, чем впечатляет. Ситуация на фронте, судя по карте и по рассказам майора Инни, была невеселой. Мне уже было доложено, что, помимо прочего, в соединении процветает взаимное недоверие и склоки между офицерами, поэтому я больше думал не о сложившейся военной обстановке, а о том, как сделать дивизию боеспособной частью. Дружба и взаимопомощь, может быть, и не играют решающей роли на производстве или в административной деятельности, но для успеха воинской части на фронте они совершенно необходимы. Отсутствие единства среди командного состава дивизии уже проявилось, например, в отказе двух старших офицеров, подполковников Акинринаде и Алаби-Исама, самовольно уехавших в Лагос, вернуться в дивизию, пока там находился ее бывший командир. Эти офицеры были уверены в том, что они будут убиты, если вернуться в расположение части. Пока я думал о том, как возродить единство офицеров, мы приземлились в Порт-Харкорте.
В аэропорту был выстроен почетный караул из солдат, полицейских, военнослужащих ВВС и ВМФ. Я с удовольствием отметил этот пример сотрудничества различных родов войск, и особенно армии и полиции. У самолета меня встретил военный губернатор капитан второго ранга Диете-Спифф, со своей командой почти в полном составе и старшими офицерами армии. После краткого обмена приветствиями мы с губернатором поехали к нему домой. Этот простой акт вежливости и гостеприимства, удививший всех присутствовавших, положил начало отношениям доброжелательности и взаимного уважения, которые существовали между военными и гражданскими властями на протяжении всего моего пребывания в Порт-Харкорте. Далее я еще скажу об этом.
Командир 1-го сектора подполковник Годвин Алли, исполняющий обязанности начальника штаба дивизии, извинившись, предупредил меня, что в ближайшее время я не смогу поселиться в доме, предназначенном для меня, "так как там не хватает многих вещей, которые еще не успели достать или починить", и пригласил меня временно разместиться в его собственном доме. Тем не менее я решил сразу же въезжать в свой дом независимо от его состояния. Ремонт вполне мог продолжаться и при мне.
В тот же день должны были состояться две вечеринки, на которые мне посоветовали пойти, так как это традиционно ожидалось от командира дивизии. Мне это не понравилось по следующим причинам: во-первых, крайне тяжелое положение дел на фронтах, не являвшееся секретом ни для меня, ни для всех остальных, никак не располагало к веселью, а во-вторых, я вообще не люблю посещать увеселительные мероприятия, за исключением необходимых по долгу службы или устраиваемых очень близкими друзьями. Но все же я туда пошел. Первая вечеринка была организована капитаном Патриком Идоко в честь появления на свет его ребенка, а вторая - по случаю прощания майора ВВС Ато со своими коллегами перед переводом в Энугу. Когда в доме Ато я попросил молока, один из офицеров заметил мне: "Сэр, ведь это напиток для младенцев"; я ответил, что, очевидно, еще продолжаю расти. Офицеры были удивлены и несколько разочарованы тем, что их новый командир не употребляет спиртного. На обеих вечеринках я провел не более 15 минут, после чего пошел домой спать.
Докладывая распорядок дня, штабной офицер сообщил мне, что работа в канцелярии обычно начинается в 9 часов утра, а от меня ждут, что я буду приходить на работу хотя бы к 10. Я молча выслушал это предложение, вспомнив, однако, известное высказывание генерала Эйзенхауэра о том, что человек, не сделавший половину дневной работы до 10 часов утра, рискует не сделать второй половины вообще. И вот 17 мая 1969г.- мой первый рабочий день в Порт-Харкорте. Я был в своем кабинете к 8 часам утра, но увидел лишь нескольких солдат, убиравших рабочие помещения. Ни одного офицера, естественно, в штабе не было. Очевидно, полковник Адекунле привык всю текущую работу делать сам, о чем свидетельствовал несколько поверхностный характер его докладов.
На двери его кабинета висел плакат с надписью: "Не входить под угрозой смерти". Я сорвал его и сгоряча забросил метров на пятьдесят, а спустя некоторое время увидел в окно, как солдат с удовольствием поднял плакат с земли, понес его высоко над головой, а затем, разломав, выбросил на свалку. Я вряд ли смогу когда-нибудь оценить весь эффект, произведенный этим моим жестом, но должен отметить, что, если бы я внял просьбам прибыть в Порт-Харкорт, пока там еще находился мой предшественник, поступить так с этой вывеской было бы бестактно.
Несколько раньше в Лагосе главнокомандующий, искренне беспокоящийся за судьбу операций на южном направлении, советовал мне обязательно пробыть в Порт-Харкорте 2-3 дня с уходящим командиром, чтобы из первых рук получить всю необходимую информацию. Я же придерживался другого мнения. Командир дивизии подобен послу: нельзя иметь двух послов, представляющих страну, одновременно - один должен выехать до прибытия другого. Акта о сдаче-приеме полномочий, доклада штабных офицеров и нижестоящих командиров должно быть вполне достаточно для того, чтобы новый начальник, если он на что-то годится, вошел в курс дела. Кроме того, в соответствии с воинскими традициями уходящего командира провожают с подобающими почестями, которым не должно мешать и которые не должно ограничивать присутствие нового начальства. Предложенный мной порядок "передачи власти" был целесообразен, и главнокомандующий согласился с моими доводами.
Оперативные распоряжения штаба армии от 9 мая 1969г., ссылаясь на надежные разведывательные данные, исходили из того, что мятежники попытаются захватить Порт-Харкорт до 30 мая 1969г., то есть ко второй годовщине провозглашения Биафры. Далее следовали подробные инструкции о тех мерах безопасности, которые следовало принять. Указания были четкими и недвусмысленными, но я сам был намерен определять последовательность в исполнении своих обязанностей в дивизии, а также пути и способы этого.
Еще до того, как я покинул Лагос, я был твердо уверен лишь в одном: в необходимости полностью выплатить всем солдатам их жалованье. Когда я был курсантом, меня учили, что для того, чтобы требовать от солдат полной отдачи, на какую они способны, надо проявлять постоянную заботу об их благополучии, особенно о размещении, питании, денежном довольствии и отпусках. Солдаты 3-й дивизии ни разу не получали отпусков и своего жалованья полностью. Кем-то было решено, что его надо сохранить до лучших времен независимо от того, нуждался солдат в жалованье или нет. Что касается питания, то оно целиком зависело от обстоятельств, а окопы для большинства солдат служили лучшим видом жилья.
После доклада начальников отделов штаба я попросил подполковника Годвина Алли подготовить мне в течение 48 часов подробный план нашего наступления на Охобу, местечко в 25км от Оверри. Моя цель состояла в том, чтобы нанести удар по мятежникам как можно ближе к их основной базе, что могло заставить их отложить свое наступление на Порт-Харкорт или отойти. Мне нужно было выиграть время, чтобы продумать все детали сложившегося положения. Другими словами, планируемое наступление на Охобу было необходимо для того, чтобы сорвать планы мятежников, как я их себе представлял: мощный удар по нашим позициям в переходный период передачи командования в дивизии.
После совещания я хотел ознакомиться с работой госпиталя, а затем посетить военное кладбище и отдать дань памяти погибших в этой войне. Начальник госпиталя доктор Нья не успел специально подготовиться к моему посещению. Его работа и весь коллектив произвели на меня очень хорошее впечатление. Доктор Нья был спокойным, скромным, преданным своему делу специалистом. До того как к нему присоединился еще один неутомимый доктор, майор Ферейра, Нья работал в одиночку, не покладая рук день и ночь, и очень помогал дивизии. Побеседовав почти с каждым пациентом, я начал лучше представлять себе проблемы и нужды солдат боевых частей. Мое посещение госпиталя в первый же день пребывания в Порт-Харкорте изменило решение доктора Нья покинуть дивизию, о чем он уже договорился с моим предшественником. Как позднее выяснилось, многие офицеры, после объявления о моем назначении обещавшие уйти из дивизии, как часто бывает в подобных обстоятельствах, раздумали это делать. Все они со мной быстро сработались, и наши совместные усилия завершились победой в гражданской войне.
К концу первого дня я оценил весь масштаб работы, которая мне предстояла, и пришел к выводу, что стоящие передо мной задачи лежат в области руководства военными действиями и в области руководства людьми. Военные цели были изложены в директиве штаба армии. Мне оставалось лишь определить методы их достижения. Но надо было также выработать цели в области управления людьми. Без положительных результатов на этом поприще нельзя было приступать к решению военных задач, не говоря уж о том, чтобы их успешно выполнить. Самым важным инструментом в военном искусстве до сих пор остаются люди. Без них все самые совершенные машины, оборудование и другие средства совершенно бесполезны.
Сложившийся механизм управления дивизией необходимо было приспособить к моим целям и методам. Я должен был также улучшить снабжение частей, удовлетворить потребности солдат и заставить сплотиться офицеров. Чтобы добиться скорейшего эффекта от моего перевода в дивизию, мне необходимо было увидеть и услышать как можно больше солдат и чтобы как можно больше солдат увидело и услышало меня. Нужно было заставить их понять меня.
Итак, цели были ясны: превратить дивизию в гордую, гармоничную и грозную боевую часть с высокими морально-боевыми качествами, заразить офицеров и солдат чувством преданности делу, вселить в них мужество и решимость драться, невзирая на мощь противника, создать атмосферу товарищества, уверенности в победе, стабилизировать отношения между военными и гражданскими, в том числе и гражданской администрацией, добиться того, чтобы все нигерийцы в нашей оперативной зоне, невзирая на их принадлежность к различным этническим группам, относились друг к другу с любовью. Если мне удастся всего этого достичь, то и оперативный успех будет обеспечен.
18 мая исполнилась первая годовщина освобождения Порт-Харкорта федеральными войсками. Она отмечалась очень торжественно: на стадионе состоялся парад, затем - выступление народных ансамблей штата Риверс и традиционные танцы изумительно красивых женщин штата. Перед тем как ехать на стадион, я зашел в канцелярию, чтобы ознакомиться со срочными бумагами, подготовленными подполковником Алли и отдать необходимые распоряжения. План я принял с незначительными исправлениями и назначил операцию по захвату Охобы на 20 мая.
Праздничный парад прошел очень хорошо. В своей речи губернатор поблагодарил федеральные войска за освобождение штата Риверс и призвал его население к упорному труду. Вечером в резиденции губернатора состоялся прием, на котором я был представлен членам местной администрации.
19 мая вместе с майором Джорджем Инни я посетил Элеле, чтобы проверить готовность войск 1-го сектора к наступлению на Охобу. Из пополнения уже были выделены подразделения, которые должны были на следующий день идти в бой, но в них отсутствовал офицерский состав. Мне объяснили, что офицеры 16-й бригады, недавно выведенной из Оверри с тяжелыми потерями, отказались принимать участие в каких-либо боевых действиях, совершенно безосновательно считая, что, когда они были в окружении, их бросили на произвол судьбы. Мне удалось вызвать их на откровенный разговор, после которого все офицеры согласились принять участие в операции под командованием майора А.Алийю.
20 мая наступление на Охобу чуть было не сорвалось. К 9 часам утра, когда я прибыл на исходные позиции, войскам только раздавали боеприпасы. Мне пришлось выступить перед солдатами и офицерами. Наконец незадолго до полудня операция началась. Нам с незначительными потерями удалось продвинуться примерно на километр. Это было первое наступление в зоне действий сектора с момента сдачи Оверри. Возвращаясь на исходные позиции, мы с командиром сектора попали в засаду и едва не погибли. Чтобы лучше ознакомиться с местностью, я попросил командира сектора повезти меня другой дорогой, он легко согласился, не предполагая, что впереди может быть устроена засада, на которую и напоролся ехавший первым джип с охраной. Моя машина следовала за ним. Благодаря мастерству и быстрой реакции водителей, обе машины удалось вывести из-под огня, хотя один джип был прострелен, а несколько сидевших в нем солдат получили ранения. Информация об этом незначительном инциденте чрезвычайно быстро разнеслась по Лагосу и всему Западу, но в таком запутанном и искаженном виде, что некоторые мои друзья отправились в госпиталь Ибаданского университета, чтобы разыскать мое тело.
Проведенная нами операция приостановила продвижение мятежников в южном направлении и дала мне возможность тщательно изучить обстановку. Вечером 20 мая я провел первое совещание со всеми командирами, начальниками вспомогательных служб и штабными офицерами. В дивизию вернулись подполковники Акинринаде и Алаби-Исама, которым я не разрешил лететь вместе со мной из Лагоса в Порт-Харкорт, чтобы окончательно не подорвать дисциплину. Беседуя с ними в Лагосе, я не стал скрывать, что, если бывший командир предъявит им обвинения в совершении какого-либо нарушения, оно будет разбираться в соответствии с военными законами. Однако опасения этих офицеров были напрасны, так как до самого конца гражданской войны никаких обвинений им предъявлено не было.
Целью моего первого совещания было познакомиться с возможно большим числом офицеров дивизии, выявить пороки, мешающие ее нормальному функционированию, и посвятить присутствующих в мои замыслы. Я начал совещание с того, что попросил почтить минутой молчания память военнослужащих дивизии, погибших в войне. Затем я выразил глубокую признательность всему личному составу дивизии, в том числе и моему предшественнику, за прекрасные результаты, достигнутые ими в боях за единство и территориальную целостность Нигерии.
Переходя к основной части совещания я попросил присутствующих искренне и честно высказать свое мнение по поводу трудностей, стоящих перед дивизией, подчеркнув, что меня интересует, не кто виноват в проблемах, а в чем они заключаются. После того как я оборвал несколько выступлений, принявших характер обличения и взаимного сведения счетов, многие офицеры свободно, справедливо и честно изложили свои точки зрения. Многие высказывались по четырем главным темам: боевые действия отдельных частей, профессиональная подготовка войск, материальное обеспечение и дисциплина. На совещании мне открылась еще одна сторона человеческого характера: офицеры, которые всего за неделю до сегодняшнего дня тесно сотрудничали со своим бывшим командиром, в моем присутствии торопились обвинить его во всех смертных грехах. Я резко пресекал подобные попытки, но такое поведение еще раз напомнило мне о некоторых непривлекательных особенностях человеческой натуры.
Во время совещания мне стало ясно, что дивизия, добивавшаяся быстрых успехов в речных и относительно дружественных районах Среднего Запада, Юго-Восточного штата и штата Риверс, не изменила тактических приемов, начав боевые действия целиком на суше и во враждебно настроенных районах, населенных ибо. Не обладая необходимыми резервами, дивизия так же быстро теряла завоеванное, как и приобретала его. Войска, не знавшие до этого поражений, были совершенно деморализованы. После того как я изложил первоочередные задачи и свои взгляды на вопросы подготовки, материального обеспечения и дисциплины в дивизии, я обратился ко всем офицерам с призывом стремиться к сотрудничеству, соблюдать порядок и неукоснительно выполнять приказы.
После встречи со старшими офицерами я решил ознакомиться с положением дел в частях, увидеть как можно больше солдат и поговорить с ними. Сначала я посетил 1-й сектор, состоявший из 15-й, 16-й бригад и особой тактической группы (ОТГ). Командир сильно потрепанной в боях 16-й бригады майор Утук был в отпуске, и бригадой временно командовал офицер запаса лейтенант Бухари. ОТГ под командованием майора Алийю представляла собой часть, наспех сформированную для спасения Оверри. Единственное, что было в этой части "особого",- так это ее дезорганизация. Группа не имела ни офицерского, ни сержантского состава, у нее отсутствовала собственная материально-техническая база. Солдаты в изношенном обмундировании бесцельно бродили по расположению части. В Элеле, где находились штабы сектора, 16-й бригады и ОТГ, каждый из которых вел свои административные дела независимо от других, поддержание дисциплины было крайне трудным делом. Положение, сложившееся в 1-м секторе, который считался самым благополучным в дивизии, не обрадовало меня. Отношение к делу его командира, оскорбленного тем, что ему не дали повышения по службе, было весьма легкомысленным и безразличным. Во время беседы он сказал мне, что, если дела сложатся для Нигерии плохо, он переселится с семьей в Голландию. Очевидно, этот офицер уже просил о переводе из дивизии, поскольку его имя даже не значилось в списке старших офицеров, переданном мне моим предшественником.
...

Gudleifr- Admin
- Сообщения : 3246
Дата регистрации : 2017-03-29
Страница 9 из 10 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Страница 9 из 10
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения|
|
|
